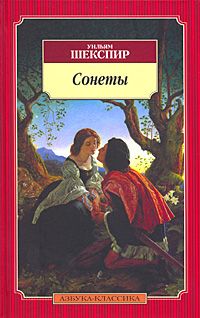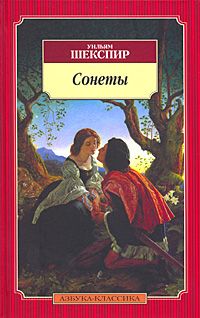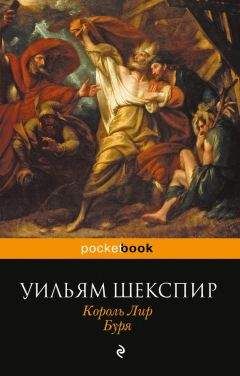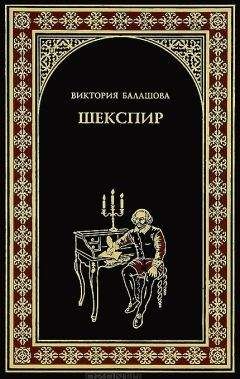Зигфрид Ленц - Живой пример
Подтягиваясь на железных перилах, Валентин Пундт взбирается по цементным ступеням, пристально разглядывает сквозь завесу снега и дождя другую сторону улицы, вон гастрономический магазин, а на пятом этаже над ним два освещенных окна. В витринах магазина Пундт узнает господина Майстера. Перед ним плакат: господин Майстер, радостно улыбаясь, однако сознавая всю глубину своей ответственности, смакует на фоне цейлонского пейзажа самый лучший в мире чай. Над магазинами поднимаются грязные фасады старых, вместительных жилых домов, стены их возле невзрачных подъездов залеплены белыми эмалевыми табличками; здесь, как по договоренности, так и без оной, предлагают свои услуги главным образом представители трех профессий, без которых, кажется, в этом городе никто обойтись не может: адвокаты, зубные врачи, консультанты по налоговым делам.
Почему дверь подъезда не заперта? Пундт остановился в подъезде, читает напечатанные старинным плакатным шрифтом правила содержания дома, а они требуют, чтобы дверь зимой с восьми, летом с девяти часов была заперта. Этажом выше, над ним, затухают чьи-то шаги, вот их уже не слышно. Ни поворота ключа в замке, ни хлопающей двери. Пундт идет в глубь подъезда, выложенного двуцветной плиткой, проходит мимо высоких, по краю потускневших зеркал, уже шестьдесят лет взаимно контролирующих друг друга, мимо лифта, которым даже с риском для жизни нельзя пользоваться. Он читает таблички с фамилиями на дверях, всех, без исключения, выкрашенных в светло-коричневую краску — светло-коричневый цвет считается здесь «немарким», — на дверях гамбургского доходного дома, и хотя он сам того не хочет, но вынужден поверить, что за каждой дверью живут до девяти квартирантов и, кроме того, разместились консульства, филиалы издательств и даже секретариат какой-то академии.
А вот здесь живет Лилли Флигге; на визитной карточке нацарапана просьба звонить четыре раза. Пундт нажимает звонок, словно изучал азбуку Морзе, небрежно, но точно подает четыре коротких сигнала, отступает от двери и наблюдает за «глазком», на который вот-вот упадет тень; но «глазок» светится, и Пундт, полагая, что его не расслышали, звонит еще раз.
Кто-то идет, вот теперь кто-то идет: твердые шаги, они быстро, целенаправленно приближаются, слышно, что на ходу идущий напевает песенку, дверь не просто открывается, нет, она рывком распахивается, и на пороге появляется красный брючный костюм.
— Слушаю вас?
— Пундт, Валентин Пундт из Люнебурга.
Его фамилия, кажется, не тотчас доходит до сознания девицы и не открывает ему дорогу в длиннющий коридор, поэтому Пундт добавляет:
— Я отец Харальда.
Подвижное лицо под шапкой коротких локонов поднимается к нему, девушка с удивлением и недоверием переспрашивает:
— Отец Харальда?
— Да. Могу я с вами поговорить?
— Конечно, ну конечно же, хотя минута не совсем подходящая, о чем я должна сразу предупредить… идемте… не очень-то подходящее время, я как раз разгребаю свои залежи, упаковываю чемодан, навожу порядок… нет, нам дальше… дело в том, что завтра я уезжаю в Абердин, на целый семестр… осторожно, здесь две ступеньки… по обмену, в Абердин, но вовсе не собираюсь отказываться от комнаты, ее вполне может занять на это время кто-нибудь из сокурсников, ведь в Абердине я не останусь, наверняка нет… вот теперь налево… и знаете, в подобном случае сам собой напрашивается вопрос, не достаточная ли причина такой семестр, чтобы составить завещание, знаете, когда упаковываешь чемоданы, тобой невольно овладевают странные мысли, они и вам, видимо, не чужды… но вот мы и пришли, заходите, пожалуйста… да, на этот раз я дольше всего пробуду за границей.
Ну что твой пулемет, думает Пундт, тараторит — точно строчит из пулемета, а ни единой мысли, которую можно повторить, не остается.
— Надеюсь, вам не помешает, что в комнате такое разорение… присаживайтесь, пожалуйста… и если позволите, я буду упаковываться, а проигрыватель выключите.
И вот директор Пундт сидит в невыносимо светлой комнате с такой низкой мебелью, что невольно задаешься вопросом, почему бы вообще от нее не отказаться: от стола, к примеру, высота которого, на взгляд Пундта, не превышает высоты спичечной коробки, от кресел, что едва поднимают сидящего над полом и вдобавок заставляют его скрючиться, или от диван-кровати, на которой человек нормального роста, надо полагать, даже не сможет сидя раздеться. Все здесь низенькое, плоское, какое-то сгорбленное, все укорочено и точно приросло к полу, словно здесь ждали бури и постарались не оказать ей сопротивления, чтобы она растеклась в пустоте. Валентин Пундт не хочет, да и не может решить, какого определения заслуживает его поза; он как будто даже возлежит, во всяком случае он занял одно из кресел, и теперь ему представляется, что он растянулся на плоту и его куда-то гонит несущийся поток, выбрасывая на поверхность вокруг него свою добычу: туфли, скоросшиватели, плечики, баночки и флакончики, можно даже разглядеть свинку-копилку и, конечно же, книги, чемоданы, белье, разверстые дорожные сумки. Лилли Флигге в красных брючках фланирует меж дрейфующими предметами, вылавливает их, сортирует, укладывает и рассовывает по чемоданам, куда попадают и фотографии в рамках, вот сверху уже лежит Майк Митчнер.
Лилли снова позабыла, кто сидит в ее комнате, молча наблюдая, как она пакует чемоданы; а может, думает Пундт, она боится расспросов и воспоминаний и поэтому оттягивает разговор; но тут, стоя далеко от окна, и тише, чем обычно, Лилли внезапно обращается к нему. Она говорит:
— Я не знаю, зачем вы пришли, хотите ли вы мне что-то рассказать или хотите что-то от меня услышать, но знайте одно: мы с Харальдом расстались… За несколько месяцев до того, как это случилось.
Пундт смотрит на Лилли выжидательно, у нее в руках свитер, его молния разошлась, и Лилли, стоя под торшером у окна, пытается ее починить, но вот Лилли подходит к чемодану, шаг ее сопровождают какие-то хлопки — это хлопают широченные брюки с отворотами, как у плотников. Она прикладывает к себе свитер, пустые рукава забрасывает за спину, скептически разглядывает в зеркало свое мгновенное объятие со свитером, затем все так же на весу складывает свитер, и тот исчезает в дорожной сумке. Да, думает Пундт, ей надо бы прослушать лекции по упаковке вещей, хотя бы на вечерних общеобразовательных курсах.
— Мы расстались, да-да, по доброму согласию, точнее сказать, по-дружески. Мы понимали, что дальше так продолжаться не может, нет, не может.
— Но не это же послужило причиной его поступка, — говорит Пундт.
— Нет, это не послужило причиной, — отвечает она. — Всегда найдется тысяча причин, и уж по меньшей мере — две. У Харальда тоже была тысяча причин.
Она выдвигает какой-то ящик, начинает повязывать голову разными платками, яркими, цветастыми платками, в нерешительности разглядывает их в зеркало; в конце концов рывком сминает их и запихивает, пожимая плечами, в чемодан; в Абердине, надо думать, постоянные ветры, а потому платков нужно захватить побольше.
— Вы знали его лучше, чем кто-либо другой, — говорит Пундт. — Какие же это были причины?
— Я о нем знала не так много, и, уж конечно, не самое главное, — отвечает Лилли Флигге и, отвернувшись, шаря руками в раскрытом стенном шкафу, продолжает: — Но если уж вы спрашиваете и если мне позволено назвать вещи своими именами, так вот: очень давно, еще в раннем детстве, ему внушили нечто тревожившее его с каждым днем все больше и больше, это превратилось у него в манию, в одержимость, да, именно в одержимость, вот, может быть, вы мне и скажете, почему он постоянно гонялся за причинами, за оправданиями. Все ему надо было оправдывать и обосновывать, каждое свое отсутствие, каждую мысль или желание, и если он что-то предпринимал, так заранее старался обосновать свой поступок. Но удивительное дело: он, которому для всего требовались причины, оставил нас в неведении о причинах, толкнувших его на такой шаг.
Лилли вытаскивает из шкафа узел шерстяных гольфов, желтых, синих, красных, один за другим они выскальзывают из ее руки и падают в открытую сумку.
— Быть может, вам известно, что угнетало его больше всего?
— Харальда? Не знаю. Иной раз, когда у него не оказывалось сигарет, он пешком приходил сюда с Альте-Рабешитрассе, звонил часов в одиннадцать вечера, да-да, садился на пол — он любил сидеть на полу — и искал причины, объясняющие его поведение в определенных условиях, объясняющие его усилия, искал причины, объясняющие ту или иную политику. Он никогда не говорил о причинах, угнетавших его, за исключением одной, хотя он и не считал ее существенной, — об экзаменах.
— А если он скрывал эти причины?
— Он и скрывал. Конечно же, скрывал, иначе всего этого не случилось бы. Если уж вы спрашиваете, так я скажу: раз мы не знаем причин, так нам остается только предполагать, и я, я лично полагаю, что Харальд здорово умел скрывать страх.