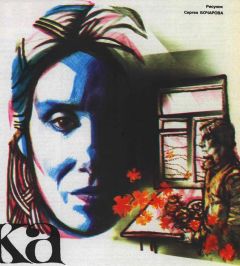Валентина Дорошенко - Зацветали яблони
Наутро — было как раз воскресенье — Дарья Трофимовна встала ни свет ни заря, пошла на кухню, поставила чайник и стала обдумывать предстоящий разговор.
— Мама, вы что так рано? — просунула голову в дверь Марина. — Отдыхайте, я сама завтраком займусь.
— Да что ты меня все укладываешь? — вспыхнула Дарья Трофимовна. — Успею еще належаться — когда в белые тапочки нарядите.
Чай пили молча. Дарья Трофимовна несколько раз раскрывала рот, но сказать так ничего и не сказала. И только когда невестка стала собирать чашки, она решилась:
— Ну, как дальше-то? — поинтересовалась, прокашливаясь. — Что делать-то будем?
— То же, что и до этого. Жить. Или вам у нас не нравится?
— Отчего же? — вздохнула Дарья Трофимовна. И, осмелев, глянула в упор на невестку. — А что с домом?
— С домом? А что с ним? — вроде бы испугалась она. — Не сгорел, надеюсь?
— Тьфу, тьфу, — сплюнула свекровь и перекрестилась. — Целехонек, слава богу. Только ты думаешь, за него много дадут?
— А вы что, собираетесь его продавать? — удивилась Марина.
— Вы, сдается, за меня собираетесь!
— Что вы! Летом все туда поедем. Отремонтируем дом, крышу починим. Родиону полезно молотком постучать, мускулы подкачать. Да и Ксюшке в огороде покопаться. А уж мне… Нет, Дарья Трофимовна, не угадали, — улыбнулась. — Не для того вы нам нужны.
— А для чего? — переспросила свекровь.
— Для чего? — в свою очередь удивилась Марина. — А для чего нужны матери?!
Год желаний
Ну и день! Ни земли, ни неба. Буря мглою. А его лошадка, снег почуя…
Не лошадка, а Кретова. Соседка, которая своему Мишке велик подарила. Гоночный. Приколистый. Ну и фиг с ним. Не великом единым.
Несется рысью. Вместе с ковром. На снегу выбивать будет? Точно. Палкой орудует классно. Как чемпион мира. Хрясть-хрясть! С таким азартом, словно чирики из него выколачивает. Прям снег вокруг вскипает. Как волна. Мишку она, говорят, тоже лупит. Поэтому уши у него всегда багровые. Как этот ковер. Не захочешь велика!
Хрясть-хрясть — словно по затылку. Ошизеть можно! Разве тут сосредоточишься?
Перевел взгляд на тетрадь, раскрытую на чистой странице.
Русская женщина в произведениях советских писателей. Какая она?
Снова глянул в окно. И снова — Кретова. Бух-бух. Вверх-вниз палкой. Даже береза рядом вздрагивает.
И вдруг стук пропал. Палка по-прежнему вверх-вниз бегает, а хлопков нет. Стало тихо-тихо, как во сне. Из-за березы вышла она. Ну да, Вика. Ее походка. Легкая, стремительная. Бегущая по снежным волнам.
И волосы ее. Тряхнула головой — и засверкали, вспыхнули, как бенгальский огонь. Солнце, понятно, тут же выпрыгнуло. Не могло подождать, пока она уйдет. А она специально тряхнула волосами. Чтобы его ослепить. И чтобы он зажмурился. И ничего уже больше не видел. И потерял нить. Связь времен. Хитра и коварна. В общем, женщина. В произведениях…
А когда открыл глаза — никого. Кроме Кретовой. И ее палки. Бух-бух…
Пригрезилось? Но ведь своими глазами видел! Вышла из-за березы и шла прямо на него…
Чушь! Делать ей больше нечего, как за березами прятаться. Или ехать из своего института за тридевять земель, чтобы посмотреть на его окно. Бред собачий! Галлюцинаций ему недоставало, надо же! Так и свихнуться недолго…
Отвернулся от окна, прилежно уставился в тетрадь.
Русская женщина… Как она шла! Как сверкали в солнце ее волосы!
Взял ручку, занес над листом. Помедлил, прицеливаясь. А потом быстро написал:
Не подаришь, не поманишь —
Ничего, перетерплю.
Что ж, что ты меня не любишь,
Зато я тебя люблю.
Откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. И снова увидел березу. Ослепительно белую. И снег — тоже ослепительный. Снег и тишина. Белое безмолвие.
И вот тут вступили скрипки. Концерт — симфония для виолончели с оркестром. Прокофьева. Ее любимый.
Он открыл глаза и под звуки виолончели записал:
Твоя легкая походка,
Россыпь жгучая волос…
— Кирюша, ты уроки сделал?
Виолончель смолкла. Мать. Он и не слышал, как она открывала дверь.
— Уроки, спрашиваю, сделал?
— Делаю, — отозвался Кирилл, перечитывая написанное. Слово "жгучая" не понравилось — больно вычурное. Зачеркнул, поставил "светлая".
— Сочинение написал? — продолжала интересоваться мать.
— Пишу.
"Светлая" тоже вычеркнул. Слабо. Снова перечитал. Все слабо! Все двустишье. Зачеркнул.
— А какой эпиграф взял?
Ну, достала! Четверостишье тоже зачеркнул. Чушь! Слюни! Детский сад.
— Я спрашиваю, какой эпиграф взял?
— Длинный.
— Какой?
Мать не успела как следует удивиться: сумка бухнулась на пол и вылила из себя что-то молочно-кефирное. Сама же у порога поставила!
Кирилл выбежал в коридор, подхватил опрокинутую сумку.
— Не надо, я сама! — предупредила его движение мать и, перехватив набитый до краев клеенчатый баул, потащила его на кухню.
— Опять нагрузилась! — проворчал Кирилл, направляясь в ванную за тряпкой.
— Я сама! — подоспела мать. Выхватила тряпку и стала вытирать белую лужу. — Сиди занимайся!
Кирилл вздохнул и вернулся к столу.
Русская женщина…
Снова посмотрел в окно. Соседки нет. Ковра — тоже. На его месте темный квадрат. Быстро отвел взгляд в сторону. Пригрезилось! Какая-то ерундистика с ним творится. Нет, он должен ее видеть. Если не хочет совсем с нарезки сойти. Должен. Сегодня же!..
Встал, пошел в ванную. Постоял перед зеркалом, рассматривая красный прыщ на своей левой щеке. Ну и уродство! Разве можно любить парня с таким отвратительно красным прыщом? Выпятил скулу — нормальная мужская скула. Широкая и вполне щетинистая. Скоро будет. А вот этот прыщ…
Не отрываясь от зеркала, двумя указательными пальцами стал его выдавливать.
— Ты что делаешь! — ужаснулась мать, заглядывая в ванную. — Еще хуже будет!
Кирилл повернулся и вышел.
— Смажь зеленкой! — крикнула вдогонку Елизавета Антоновна.
— Ладно, — пообещал ей и пошел в кладовку. Зачем? За чем-то нужным. Он это точно знал. Постоял, подумал. Но за чем конкретно, так и не вспомнил. Вышел. Заглянул в комнату матери.
— Что ты там ищешь? — немедля отреагировала она.
— Ластик, — ответил Кирилл.
— Он у тебя под "алгеброй", — напомнила Елизавета Антоновна, и ему пришлось вернуться к себе. Посидел, уставившись в чистую тетрадь. Полистал "алгебру". Потом "геометрию", а вслед за ней — "тригонометрию". Ластика не нашел. Встал, снова прошелся по коридору. Заглянул зачем-то в кухню.
— Ну что ходишь как неприкаянный? — спросила мать, выгребая лед из размороженного холодильника. — Чего за уроками не сидится?
— Жрать охота, — объяснил, и она бросилась к плите.
— Ну вот, говорил, что умираешь с голоду, а сам уже полчаса один бутерброд мучаешь! — укорила Елизавета Антоновна, когда они сидели за обедом. — Ешь! — И, внимательно посмотрев на его уныло жующую физиономию, спросила: — Что с тобой происходит, сын?
— Ничего.
— Я же вижу. Мать не обманешь.
Он отщипнул кусок хлеба и сделал вид, что сильно сосредоточен.
— Ешь, — приказала мать. Но тут же мягко прибавила: — А то и дистанцию-то не пробежишь. Совсем ты у меня исхудал, сыночек! — протянула руку, провела по его мягким вьющимся волосам.
— Я не пойду сегодня на каток, — заявил он и отодвинулся от ее руки.
— Как? — огорчилась мать. — Я сегодня специально с работы пораньше ушла. По-твоему, это легко в конце года?
— Ты же сама себе начальник.
— Думаешь? — усмехнулась. — Ты, видно, не представляешь, что значит начальник ДЭЗ. Все только спрашивают, а давать никто не дает. Машина сбила столб на углу Прокинского переулка — тут же жалоба. Коллективная, от всех прокинских жильцов: почему нет света? Ноги, мол, в темноте ломаем. А у меня электрики на овощной базе работают. А Лукьянов третий день не просыхает.
— Гони в шею.
— А кого вместо? Ты к нам пошел бы? То-то же. Все сейчас грамотными стали. Работать не желают, только деньги получать. А чуть что — жалоба. Сегодня позвонил мне один корреспондент. В нашу газету, говорит, поступило письмо. Учащиеся школы номер четыреста такой-то жалуются, что до сих пор не залит каток во дворе дома номер тридцать такой-то. Почему, спрашивает корреспондент, вы не создаете условий для зимнего отдыха школьников? Скоро каникулы, а им негде кататься. — Она резко отодвинула тарелку и посмотрела на сына.
— Им и в самом деле негде кататься, — пожал плечами Кирилл. — Почему до сих пор не залили?
— Кто заливать-то должен? Мы? А то ты не знаешь, сколько у нас рабочих! Вместо того чтобы писать, взяли бы да и залили. А то больно грамотные стали!
— У них уроки, — защищал собратьев Кирилл, — некогда.