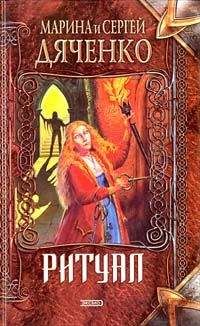Марина Дяченко-Ширшова - Зеленая карта
— Мурзик, — дядя Боря, кажется, слегка протрезвел. — Елки-палки… Это…
Шлепая по лестнице разношенными тапками, сосед сбежал вниз — и тут же бегом вернулся, причем облезлый кот несся, опережая его на полкорпуса. Уверенно подбежал к двери Бориной квартиры, встал на задние лапы и принялся когтями драть дерматин.
— Мурзик! — повторял Боря. — Мурзик, это ж надо! Откуда?!
Кот не обратил на него никакого внимания.
Боря распахнул дверь:
— Мурзик… Ну елки-палки… Димка! Я… Мурзька… дрянь такая серая… прибежал… Рая уже три месяца как за ним убивается… Три месяца! Из Ирпеня! Димка, колбасы тащи, у меня ж нет ничего, колбасы ему, докторской…
Кот шел по квартире, неторопливо и методично, как наступающая армия. Последовательно и подробно выявлял произошедшие за время его отсутствия изменения: обнюхал углы, урча, потерся о край тахты, о ножки стола, полез под тумбочку, под шкаф, собрал на себя чуть не всю пыль и паутину, потом принялся рыть лапами линолеум в коридоре — Боря спешно вытащил откуда-то огромную кювету для проявки фотографий, древнюю, бурую от реактивов. Торопливо изорвал подвернувшуюся под руки газету; кот торжественно сел в приготовленную таким образом кювету и справил нужду — под одобрительные охи-ахи гостей, набежавших из соседней квартиры.
— Это Рая, Борина жена, как уехала жить в Ирпень, так кота взяла с собой, — объясняла Диминым коллегам соседка с третьего этажа. — А кот вернулся…
Толпа прощающихся почти полностью переместилась к Боре — смотреть на героического кота. Коту тащили колбасу и кусочки сыра, йогурт в баночке, молоко в блюдце — скиталец ел все.
— А Рая переживает, — сообщила соседка с третьего этажа. — Райка его любила, как не знаю что, и он у Райки на подушке спал…
— Не трогайте его, он грязный, — говорила жена Олиного брата. — Он мог подцепить лишай, у него полно блох… Оля, обязательно руки помой…
— А вот это, за ухом, не лишай?
— Не, это шерсти клок выдранный. Кто-то выдрал по дороге…
— Бедное животное!
— Да нет, вполне нормально себя чувствует… Дай ему еще пожрать…
— Так вот, он Райку любил, а к Борьке сбежал.
— Он в свой дом сбежал… Коты — они такие паскудные…
— Ерунда. Вот у меня был один кот…
Дима вернулся к себе, вошел на опустевшую кухню; для чего-то полил чахлые цветы на подоконнике.
— Я пойду, — сказала неслышно подошедшая Оксана. — Ну, я пойду?
— До свидания, — помедлив, сказал Дима.
— До свидания, — шепотом отозвалась Оксана. — Только… — она запнулась.
— Что?
— Синдром кота, — она улыбнулась. — Не болейте. Счастливого пути.
Он пожал протянутую руку:
— Синдром…
— Не болейте, — повторила Оксана. — Счастливо.
Стоя на балконе, он смотрел, как она идет к троллейбусной остановке. А шла она необыкновенно прямо, по-королевски неторопливо, высоко подняв голову — как никогда раньше не ходила.
Мимо молодых мам с колясками… Мимо развешенного на веревке белья… Мимо малышей на детской площадке… Не оглядываясь.
* * *
Они шли по городу.
На пешеходном (воскресенье!) Крещатике катались на скейтах и роликах мальчишки и девчонки. Гуляли влюбленные и пенсионеры; какие-то припанкованные подростки распивали пиво, поблескивая донышками банок. Малыши несли на палочках шарики, как когда-то на первомайской демонстрации, только вместо голубя мира — теперь на шариках белел значок «Макдональдса». Из многих динамиков доносилась музыка, и, сливаясь, ее потоки образовывали неповторимый звуковой коктейль.
Они шли рядом — Дима, Оля, Женька. Картинки пешеходного Крещатика проворачивались перед их глазами, создавая странный «эффект отсутствия». Как будто они смотрят на свой город издалека, сквозь толстое стекло. Так бывает в последний день на море — тебя уже не интересует прогноз погоды на завтра, потому что завтра тебя здесь не будет. Потом, дома, ты положишь под стекло фотографии с этим днем, зафиксированным, засушенным, будто бабочка в коллекции, будто цветок между страницами книги. И будешь вспоминать с ностальгией… А пока ты еще здесь, и ностальгии нет, есть только отстраненность.
Оля положила пригоршню мелочи на ладонь маленькой тихой старушке в белом-белом платке.
И они пошли дальше.
В музыкальную кашу, в общий галдеж добавился новый ингредиент — мрачноватый, размеренный звук барабана. Никак не сочетаясь с расслабленной воскресной обстановкой, на Крещатик вышла колонна людей в черной униформе; перед колонной два мужика в шароварах несли огромный барабан. Над головами идущих колыхалась хоругвь, а замыкали процессию женщина в национальном наряде и маленькая девочка — тоже в вышиванке и в веночке.
Роллеры уступили место колонне — и тут же снова заняли всю ширину улицы; звук барабана удалялся, растворяясь в шуме этого странного дня. Дима, Оля и Женька пошли дальше.
Перед Софийским собором висело солнце; Дима прищурился. Он так и не успел сходить и посмотреть на экзотическую бытовую фреску — «Киевляне играют в мяч»… А когда-то он окажется здесь в следующий раз? И вспомнит ли, и сохранится ли фреска?
У входа в Михайловский Златоверхий кучковались пожилые немцы — ухоженные бодрые бабульки и дедульки, человек двадцать. Глазели на аляповатую роспись-новодел. Шубины прошли мимо.
На Андреевском торговали сувенирами; толпа расступалась перед гурьбой молодых людей — ролевиков в кольчугах и с огромными деревянными мечами. Ребята звали друг друга странными звучными именами; эльфы, подумал Дима.
Он тоже любил Толкина. Правда, не до такой степени.
В переходе торговали с пола каким угодно товаром — расческами, книгами, яблоками; Шубины миновали Речной вокзал и остановились возле парапета над Днепром. Отсюда видны были чуть ли не все мосты города, сейчас они были подкрашены закатом, и заходящее солнце отражалось в далеких окнах на Левом берегу…
Зазывал покататься прогулочный теплоходик — часовая речная прогулка; не сговариваясь, Дима, Оля и Женька направились к кассам.
…Плыли мимо знакомые берега. Хрипел динамик, развлекая пассажиров нестерпимой для слуха музыкой.
Дима, Оля и Женька стояли у борта.
* * *
В свете этих прожекторов каждый предмет имеет четыре тени. Четыре фасеточных солнца висели над Республиканским стадионом, четыре светящихся грозди.
Стадион был единым живым существом. По трибунам прокатывались волны, а значит, что и Оля с Димой, и сумасшедшие фанаты с размалеванными лицами, и президент в своей ложе, и президентская охрана, и все, кто пришел сегодня посмотреть на матч, жили в одном ритме, ловили ритм друг друга, в этом единении множества разных людей было что-то низменное и одновременно захватывающее, потому что нет такой силы, которая могла бы объединить и Диму, и Олю, и этих орущих фанов, и крупного чиновника в привилегированном секторе, и демобилизованного солдата, и всех их, разных и разобщенных, но болеющих за одну команду, болеющих так искренне и темпераментно, как будто судьбы мира зависят от того, попадет ли пестрый мяч в большую деревянную раму и забьется ли в сетке, как пойманная рыбина, переменится ли счет на табло, и запрыгают ли от счастья парни в динамовской форме — редко кому выпадает в жизни такое самозабвенное счастье. Разве что первая любовь и первое свидание, разве что рождение первенца, разве что поступление в вымечтанный, выстраданный институт… Но не со всеми и не для всех, не каждый способен испытывать эмоцию такой силы, какая исходит от человека, только что забившего важный рол. Такое счастье… и такая боль — вынимать мяч из собственных ворот. Пожимать плечами, всем своим видом показывать стадиону, что ты сам не знаешь, как это произошло. Что это судьба, или это случайность, что пропади оно все пропадом, и что надо отыгрываться…
Оля смотрела чуть скептически — как подросток, оказавшийся среди малышей на новогодней елке и через силу подыгрывающий Деду Морозу — не потому, что это интересно, а просто из вежливости. Но Оля держала Диму за руку — а значит, сама того не желая, подключена была к общему действу; Дима держал за руку незнакомого парня в «динамовском» шарфике, а парень держал за руку свою девушку, а девушка… и так далее, весь стадион держался за руки, время от времени пропуская по живым цепям импульсы-волны, а там, внизу, у кромки поля, почти неузнаваемый с такой высоты, Женька ждал мгновения, чтобы подать на поле улетевший мяч.
А совсем неподалеку под стеклянным тентом, похожим на автобусную остановку, неподвижно сидел человек, превративший футбол в искусство. Сидел безучастной скифской бабой, спрятав под забралом равнодушия все свои страсти и весь свой темперамент. И Женька нет-нет да и оглядывался на него…
Дима сжимал холодную Олину ладонь. Ему хотелось, чтобы и она почувствовала азарт сегодняшнего матча.
Оля вежливо улыбалась.