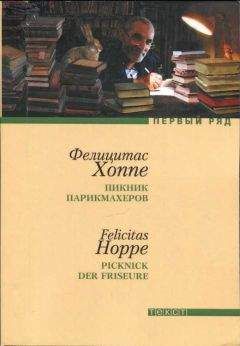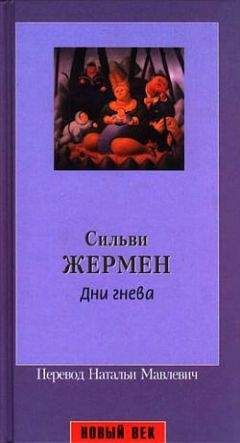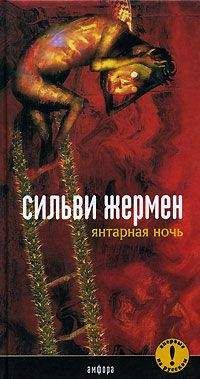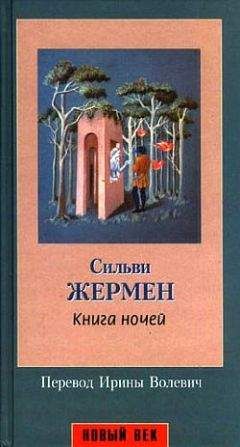Сильви Жермен - Безмерность
Домой Прокоп возвращался пешком, у него была потребность пройтись. Во время монолога Магды он не проронил ни слова. Понимал, что ему нечего сказать в свою защиту. Правда, в ту пору, когда он покинул Магду, он не особенно задумывался, как его уход подействует на нее, он думал только о Марии. В счет шла только она. Страсть все оправдывала, все искупала. Страдания Магды были делом как бы второстепенным. Улыбка одной так замечательно скрывала слезы другой. А потом настал и его черед: от него ушла Мария. Он прошел через долгое чистилище, когда периоды отчаяния следовали друг за другом, чистилище, преисполненное болью, причиненной ближним, притом что этот ближний наслаждался новым счастьем совсем рядом, в пределах досягаемости. Однако горе, испытанное Прокопом, ни в коей мере не снимало с него давней вины перед Магдой. Вина не имеет срока давности, если по-прежнему длится страдание, ею порожденное.
Прокоп шагал, и с ним следовали четыре женских имени, которые непрестанно сталкивались у него в мыслях, пересекались, сливались друг с другом. Магда, Мария, Романа, Олинка… Ему так не хотелось, чтобы горечь изменила красоту Олинки, чтобы разочарование ожесточило ее взгляд, а еще больше он боялся, что она поддастся соблазну отчаяния. Магда передала в наследство Олинке сине-лиловые — цвета безвременника — чернила своей крови, которыми в конце концов в плоть девочки впишется скрежещущая зубами ненависть. Но случается наследство куда более незаметное, потаенное, которое передается по боковой линии, вне прямой связи матери и дочери; бывают побочные матери и сестры, вливающие, сами того не ведая, белые чернила в тела некоторых своих родственников. И, возможно, горестная смерть Романы отзывается в Олинке белесым шелестом палимпсеста.
До вечера Прокоп ходил по улицам. Несколько раз заглядывал в кафе, выпил несчетное количество рюмок водки. И даже когда настала ночь, он не мог заставить себя лечь спать. Что-то продолжало в нем бродить. Он сел за стол и начал писать. Ему необходимо было поговорить с дочерью, а через нее обратиться к бывшей своей жене, но главное — к сестре. А может, и к себе самому. Прокоп не знал, о чем он будет рассказывать. Он на секунду прикрыл глаза в поисках первого, начального слова. Из хаоса языка вынырнуло слово «дорога» и привлекло его внимание. Этого оказалось достаточно. Возможно, то вздрогнуло и проявилось воспоминание о лежащей рядом с тропинкой Марии Магдалине. Однако Прокоп был не в состоянии уточнять воспоминания; слова всплывали с легким, смутным шелестом и сочетались друг с другом. Начав со слова «дорога», он сочинял на ходу сказку для Олинки.
7
«Это была узкая проселочная дорога. Она вилась по равнине вдали от крупных городов. Ее окаймляли поросшие кустарником откосы, тополя, березы, скалы. А на одном из поворотов высился каменный крест на замшелом постаменте. Но потом она потихоньку затерялась в пыли, среди зарослей колючей ежевики. Истомленная безмерно долгим своим путем, она в конце концов растворилась в скошенной траве и россыпях камней, точь-в-точь как изглаживаются умершие, которых ночь земли призвала приобщиться к великому таинству исчезновения.
Ведь дороги тоже обладают жизнью, у них, как у людей, есть своя история и своя судьба. И точно так же, как люди, однажды они умирают.
История их связана с историей людей, которые прошли по ним, с историей всех, кто оставил на них свои следы. И у них есть сердце, и сердце это бьется в такт шагам тех, кто идет по ним. Смерть настигает их, когда они становятся безлюдными, когда никто не заботится о них; их сердце смолкает, когда смолкают шаги.
У дорог есть также душа, и они обладают голосом. Тоненьким таким голоском, но он вдруг звучит, начинает петь на крайнем пределе тишины.
Голос дороги поет о любви, о бедах и радостях всех, кто проходил по ней, память о ком она хранит в себе.
А память дороги неизменная и глубокая, как века.
И вот однажды дорога пропела свою песню девушке. Шаг этой девушки был таким легким, таким нежным, что мог растрогать даже землю и гравий, по которым она ступала.
Девушку звали Люлла. У нее были белокурые волосы с золотистым отливом и карие, чуть миндалевидные глаза.
Люлла шла без всякой цели. Нестерпимое горе выгнало ее посреди ночи из родного дома.
Люлла полюбила, но тот, кого любила она, ее не любил. Впервые изведала она эту боль, когда сердце не получает ответа на свои зовы и не обретает утешения в слезах.
Она шла куда глаза глядят и заблудилась в предутреннем тумане. Однако назад не повернула, а продолжала идти по дороге.
И ей было все равно, куда она придет. Для нее весь мир был пустыней. Она любила, но ее не любили. Ей необходим был простор, бескрайний простор и тишина, чтобы постараться утишить долгий стон, звучавший в ее сердце. Ей необходимо было уйти далеко-далеко, как можно дальше. Вот так однажды она оказалась на проселочной дороге, по которой давным-давно никто уже не ходил.
Когда дорога почувствовала, что по ней ступает девушка, ее старое сердце из земли и земного праха вздрогнуло, а девушка продолжала идти по ней, и постепенно уснувшая память дороги начала оживать. Ее голос, давно умолкший, вновь зазвучал в тишине тихим шорохом трав на откосе.
Сперва Люлла ничего не слышала, она вся замкнулась в своей печали. Но дорога запела чуть звучней. Люлла было подумала, что причина этих торжественных и медленных звуков — ветер. Но никакого ветра не было.
Песня сопутствовала Люлле, она звучала у нее под ногами, и Люлла понемногу стала забывать о своем горе, она осматривалась вокруг, пытаясь понять, что могло быть источником этого дивного, прекрасного голоса.
Как только дорога почувствовала, что девушка обратила внимание на ее песню, она окружила своим голосом ее тело, обвила грудь и шею, и пение растекалось по девичьей коже. Напевные слова понемножку стали раскрываться Люлле.
То были простые, ничем не примечательные обыденные слова, которые дорога многие годы подбирала у всех тех, кто когда-либо проходил по ней. Однако дорога в глубине своих долгих лет, в глубине земли, из которой она состояла, в глубине бескрайнего неба над собой, в глубине дней и ночей нашла для них бесконечно торжественное и ласковое звучание.
„Слушай, девушка, — шептал Люлле голос, — слушай песню старой полевой дороги. Напряги слух, напряги сердце, потому что я — дорога, которая многое помнит. Я пою рядом с тобой, я пою у тебя в ушах, я пою в тебе, в твоей плоти, в твоей крови, у тебя под кожей. Дай мне проникнуть даже в твое дыхание.
Слушай, девушка, идущая, не зная куда, я расскажу тебе, как беспредельна равнина и как глубока порой бывает скорбь деревьев и скал, которые не способны постичь ее безмерность. Ведь они недвижны, навсегда прикованы к темноте земной своими длинными корнями или огромной своей тяжестью.
Я расскажу тебе о страшных муках деревьев, чьи корни питают их и одновременно лишают свободы. Чем глубже они разрастаются, чем гуще они, тем больше приносят сока, дающего деревьям силу и рост. И тем крепче связывают могучее дерево. Они не дают ему сделать даже самый малюсенький шажок.
Дерево ощущает раскинувшееся вокруг пространство, оно тянет свои ветви, чтобы коснуться его, призывает ветер унести его в манящие дали, но ветер лишь поиграет с ним, растреплет его крону, унесет с собой несколько листьев, но тут же бросит их.
Дерево изо всех сил растет, старается вырасти как можно выше, протягивает свои ветви к небу, по которому проплывают легкие облака, вечные странники. Тянется к небу, в котором кружат птицы, с которого льется свет, где сверкают звезды. Но улететь оно не способно. И его ветви наливаются тяжестью от усталости, искривляются, сплетаются, молча приникают друг к другу, потому что испытывают потребность в дружеском прикосновении, в ласке.
Слушай, девушка, чье сердце исполнено горя, я расскажу тебе о бедах деревьев. Им точно так же, как людям и животным, ведомы жажда, усталость и голод, холод тоже им ведом. Им часто случается бесконечно долго дожидаться дождя, который утолит их жажду, омоет от горькой пыли, смягчит боль ожогов. Ведь они же не могут отправиться на поиски воды. Я видела агонию деревьев, умирающих в засуху или в морозы, от которых трескается их кора. Видела, как деревья сопротивляются порывам неистового ветра или свирепым струям дождя в грозу. Они гнутся, скрипят, стонут, дрожат, но держатся. Ураган обрывает у них листья, ломает ветки.
Я видела и деревья, поверженные грозой. Точно вне себя от скорби, они словно бы поднимаются над землей, машут в воздухе пылающими ветвями, и это похоже на тщетные и бессильные взмахи крыльев, которые лишь ускоряют их падение. Они рушатся наземь, и древесная их плоть становится угольно-черной.
Но и умирают они с достоинством.