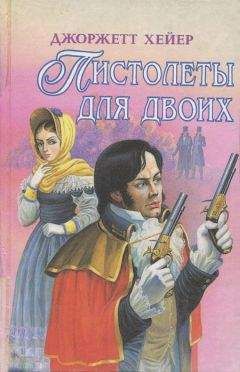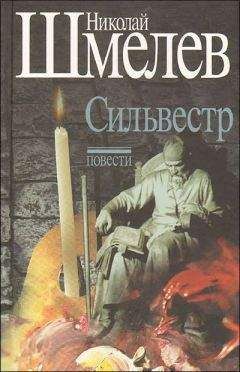Томиэ Охара - Ее звали О-Эн
За мое несчастье, за то, что я отвергнута миром, они простили мне мое происхождение, забыли, что я дочь человека, когда-то властвовавшего над ними, что я принадлежу к враждебному сословию, и допустила меня в свой круг.
Они простили меня, странную, обойденную судьбой женщину с несбритыми бровями и незачерненными зубами, перестали бояться и дают мне место у своих очагов. Неосознанное презрение к убогой, смешанное с сочувствием, помогло им понять, что я не враг.
Я хорошо изучила их, узнала их ум, их удивительную способность безошибочно распознавать друзей и врагов и вместе с тем хитрость, иногда даже наглость. Я оценила мудрость, которая помогает им жить, несмотря на жестокий гнет.
Мне полюбились вечера у их бедных очагов, где разве лишь хворост да грубый чай были в достатке; вглядываясь в их лица, озаренные красными отблесками огня, в морщины, по которым угадывалась трудная жизнь, я прислушивалась к их разговорам.
Так прошла зима и наступила весна.
Сэнсэй Синдзан встречал в затворничестве уже двенадцатый год. Вот и нынче, как всегда, Дансити принес мне его стихи по случаю ухода старого и наступления нового года.
ПРОВОЖАЮ МИНУВШИЙ ГОД ПЕТУХА
(Год Петуха по старинному японскому летоисчислению соответствует 1717 году.)
Одиннадцать лет
Я слыву преступившим законы
Одиннадцать лет
С меня обвиненье не снято.
Седею, склоненный
Над книгами всех мудрецов,
Читая творенья
Философов древних Китая.
С тревогой в душе
Провожаю я год уходящий,
И если в груди моей
Сотни мятежных порывов,
Усильем одним
Отметаю я прошлое сразу
И к небу высокому
Благостный взор устремляю.
ВСТРЕЧАЮ НОВЫЙ ГОД ПСА
(1718 г.)
С клеймом преступника
Живу двенадцать лет,
В благополучии
Всегдашнем пребываю:
В полнейшем здравии,
Не покидая дома,
Но на хозяйском месте,
Как и встарь...
Как глубоки
Пять Мудрых Сочинении,
Дошедшие
До самых недр народа,
Дарящие
Нам всем покой
И мудрость...
Мне ветер Вечности
Теплом в лицо повеял...
Перевод А. Голембы
Втайне я надеялась: может быть, в этом году сэнсэю выйдет помилование, но надежды не оправдались.
Вокруг моего жилища в полях пестрым ковром цвела вика; в горах туманной дымкой клубилась, плыла под дуновением весеннего ветерка цветочная пыльца зеленеющих криптомерии, и воздух благоухал весенними ароматами.
В моем саду свисали с ветвей обильно цветущие золотые цветы ямабуки, так что даже после захода солнца казалось, будто сад все еще озарен золотистым сиянием. Каждую весну Дансити заменял бамбуковый желоб, расчищал пруд в саду.
Этой весной он принес целую охапку пышных пионов. Два самых больших цветка, пурпурный и белый; он поставил в старинную фарфоровую вазу, принадлежавшую еще моему отцу, и украсил нишу в одной из комнат.
Миновала весна, наступило лето, и вот первого мая сэнсэй Синдзан получил извещение, что, хотя обвинение с него по-прежнему не снимают, ему разрешается выходить из дома "в окрестности, на близкое расстояние".
Разумеется, я обрадовалась до слез. Но от визита воздержалась и ограничилась лишь письменным поздравлением.
Я понимала, что мое посещение может причинить ему неприятности - ведь сэнсэй все еще считался опальным; город Коти был достаточно далеко и никак не входил в "окрестности", а селение Асакура, где я жила, - и подавно. Но в сентябре мне предстояла очередная поездка к моим мертвым в Ямада. Вот тогда я смогу повидать сэнсэя так, чтобы это не бросалось в глаза.
Теперь уже никто не сможет помешать нашей встрече. Я жила ожиданием предстоящего счастья. Ожидание - вот единственная доступная мне радость...
Вместе с тем я отдавала себе отчет, что все эти соображения - не более чем отговорки, самообман... Что-то заставляло меня откладывать свидание с сэнсэем, больше того - я испытывала даже какой-то страх перед этой бесплодной встречей.
И пока меня одолевали эти сомнения и колебания, тринадцатого июня сэнсэй внезапно скончался.
В полном одиночестве, как обычно, я растирала в ступке лекарства, когда Дансити, задыхаясь от быстрого бега, появился на пороге, чтобы сообщить мне о его смерти. Не помня себя, я вцепилась в руку Дансити и, не в силах произнести ни слова, затряслась, как в ознобе. Я смотрела на Дансити, широко открыв глаза, и дрожала всем телом.
С того дня я живу в странном оцепенении. Каждое утро всходит солнце, каждый вечер оно скрывается за горизонтом. Жизнь продолжается, как будто в мире ничего не случилось.
Я не чувствую жары, не замечаю, когда кончается день, ощущаю только нестерпимый блеск солнца. Вселенная кажется мне раскаленным добела, странно беззвучным миром,
Дни и ночи я провожу в праздности, неподвижно сидя в полутемных комнатах. Без дум, без мыслей.
С наступлением ночи я бессильно падаю на свое жалкое ложе и с тоской встречаю сияние утра. Мне кажется, я стала похожа на сову. Когда я смотрю за окно на мир, озаренный жгучим сиянием летнего солнца, я не в силах выдержать этот палящий свет и щурюсь, словно слепая. Мне казалось, я никогда уже не смогу выйти на улицу, залитую ярким солнечным светом.
Что-то непрерывно утекало из моей души, и взамен ширилась и росла пустота. Дансити, тревожась обо мне, по-прежнему приходил, но мне было тягостно с ним встречаться. Лучше всего я чувствовала себя одна.
От Дансити я узнала, что ученик сэнсэя господин Яситиро Миядзи, осужденный на затворничество в бухте Уса и проживший там уже восемь лет, подал прошение о "выезде на чужбину". Все эти годы он поддерживал связь с сэнсэем, изредка обмениваясь с ним письмами, но теперь, когда сэнсэя не стало, господин Миядзи уехал в Киото.
А в ноябре единственный сын сэнсэя, господин Какимори, тоже покинул княжество Тоса и отбыл в Киото. Центральное правительство не разрешило ему унаследовать род, так как сэнсэй умер, не дождавшись прощения.
Все уезжают. У молодых есть чужбина, куда они могут бежать, чтобы обрести там новую родину, есть будущее и новые пути в жизни, по которым они смогут шагать, думала я, пытаясь улыбнуться. Но мои пересохшие губы и увядшие щеки не складывались в улыбку.
Я никуда не собиралась бежать. У меня нет чужбины, куда я могла бы стремиться. Да и зачем, ведь я и здесь на чужбине. Куда бы я ни уехала, я всегда останусь чужой среди чужих.
Какие бы политические страсти ни бушевали вокруг, меня это уже не касается. Да, я стала чужой всему и для всех.
Меня больше нельзя сломить - я и так уже сломлена навсегда; зато и ничье участие не может меня согреть. Я уже не столько человек, сколько неодушевленный предмет.
Я проводила дни, запершись в доме, - доставала пачку писем сэнсэя, перечитывала их одно за другим и вспоминала свои ответы на то или иное его послание.
Это единственно доступные мне рукописи сэнсэя, потому что из всех его многочисленных сочинений, созданных им на протяжении всей его жизни, и в особенности за долгие годы затворничества, ни одно не увидело света.
После смерти сэнсэя власти запретили выносить его сочинения за пределы дома.
- Похоже, что отец тревожился, как бы его книги, если их напечатают, не принесли мне и матери новых несчастий... - с печальной улыбкой сказал мне сын сэнсэя, господин Какимори.
Заперев калитку, в полном одиночестве, забросив даже изготовление лекарств, я все дни напролет просиживала в сумраке комнат, мысленно разговаривая с сэнсэем. Теперь он снова вернулся ко мне и опять принадлежал мне одной. Так же, как когда-то, в дни заточения, теперь за плетеной калиткой, в этой новой темнице, мы были только вдвоем.
Покинув одну тюрьму, я перешла в другую, только и всего.
Здесь тоже безжалостно летят дни, ночи, годы.
Наступил и миновал 4-й год эры Кёхо (1719 г.)
Как и прежде, я верчу жернов, скатываю пилюли и тем живу.
Изредка я выхожу по ночам в мужской одежде. Но теперь уже ничто не трогает сердца, и я почти никогда не помню, какой нынче месяц, какое число.
Иногда я сижу у очага в домах крестьян-бедняков, но чувствую себя далекой от них, как чужестранка. Я сижу в кругу, очерченном ярко-красным светом огня, смутно слышу их грубые голоса, они доносятся как будто издалека, и даже не пытаюсь понять, о чем они говорят, будто не знаю их языка.
Наступил 5-й год эры Кёхо (1720 г.), потом и он миновал. В 6-м году (1721г.) из далекого Сукумо в области Хата пришло известие о смерти моей сестры Сё. Я прочла письмо сухими глазами и аккуратно сложила его, не проронив ни слезинки.
Прошло девятнадцать лет с тех пор, как я вышла на волю, и вот опять смерть дорогих мне людей окружает меня со всех сторон. А мне исполнился уже шестьдесят один год. Так я и живу здесь одна. И буду жить дальше.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Весной 1944 года, возвратившись на родину, в Тоса, я прошла по местам, где жила Эн. Мне удалось ознакомиться с ее письмами, хранившимися в библиотеке города Коти. У подножия замка Коти на краю густой рощи стояла некогда усадьба Нонака. Роща эта, с множеством могучих старых деревьев, казалась сумрачной даже днем. Здесь родилась Эн. К тому времени, как я переписывала в блокнот письма Эн, здесь еще сохранилась часть сада, пруд и старый колодец, прозванный "колодцем Эн" - отсюда будто бы брали воду, чтобы обмыть новорожденную девочку. Токио в ту пору подвергался ожесточенным воздушным бомбардировкам, а здесь, на юге страны, пышно цвела весна и небо сияло безмятежной голубизной. Деревня Асакура, где Эн одиноко доживала свой век после выхода из тюрьмы, находится теперь в десяти минутах езды трамваем от замка на западной окраине города, у подножия невысокой горы.