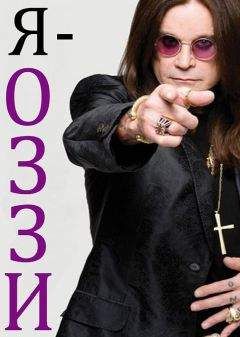Чарльз Диккенс - Письма 1833-1854
Остаюсь всегда Ваш.
104
ДЭНИЭЛУ МАКЛИ3У
Балтимор,
22 марта 1842 г.
Куда бы ни занесла меня судьба, дорогой мой Мак, - в глубь ли Дальнего Запада, куда лежит наш путь, на вершины ли Аллеганских гор, которые встают у нас на пути, в каюту ли парохода, плывущего по каналу, на зеркальную ли гладь Великих Озер, которые нам предстоит пересечь, в безмолвные ли просторы прерий, которые мы скоро должны увидеть, во мрак ли Великой Мамонтовой Пещеры, что находится в штате Кентукки, - сквозь бешеный гул и рев Ниагарского водопада отовсюду летит мой голос к небесам, неся проклятия Королевской академии. Из уединения, где когда-то кочевали племена индейцев и откуда белый человек изгнал сейчас все, кроме красного солнца, которое, так же как много, много лет назад, медлит расстаться вечером с землей (о, какое это прекрасное зрелище!), я призываю проклятья на голову Мартина Арчера Ши*. Окруженный сиянием зари и мягкой красотою ночи, я предаю анафеме Ваш стол под зеленым сукном и Ваши мерзкие графины с водой. Я плюю на Трафальгар-сквер * и попираю своей пятой Ваш академический совет. Ряды почтенных дряхлых академиков всех рангов должны дрогнуть, смешаться и пасть во прах под натиском моего испепеляющего гнева. Как Вы только могли, Мак, ах, как Вы могли забыть о нас, узрев августейшую особу прусского короля! Неужели его блеск и величие совсем вытеснили из Вашей души память о Девоншир-террас? Неужели и для Вас тоже - "с глаз долой (и с каких глаз, великий боже!) - из сердца вон"? Ах, Мак, Мак! Даже "Каледония" устыдилась, не привезя мне от Вас письма, и отправилась в обратный путь. Самый океан впал в неистовство, не выдержав безмерной гнусности Вашего поступка. Как Вам, наверное, было стыдно, когда Вы получили целых два письма, которые я, воздавая добром за зло, послал Вам, особенно то, в которое я вложил меню с бала и портрет Кэт! Я знаю, Вы раскаялись в тот миг, пожалуйста, не говорите, что нет.
Мы много путешествуем. Я послал Форстеру некоторые из своих путевых заметок. Как всегда, он должен распорядиться ими. Что же касается пейзажа страны, то мы, право же, пока видели очень немного. Он всюду одинаков. Железные дороги проложены через низины и болота, и всюду, куда ни кинешь взгляд, встает бесконечный лес с упавшими деревьями, гниющими в стоячей воде среди мертвой растительности и беспорядочно наваленного строевого леса; всюду мерзость запустения. Наш поезд с грохотом проносится мимо, и я мысленно населяю страну индейскими племенами, которые жили здесь когда-то, ясно вижу их между деревьями - вот они спят, завернувшись в одеяла, вот чистят оружие, нянчат смуглых малышей... Но тянутся бесконечные мили, и страна кажется почти совсем вымершей, только иногда мелькает у дороги бревенчатая хижина, где у порога играют дети, да барак для негров-рабов или белый лесоруб с топором в руках и большой собакой нарушают унылое однообразие пейзажа.
Когда Вы получите это письмо, Форстер, вероятно, уже покажет Вам все, что я успел ему послать. Поэтому я сжалюсь над Вами и не буду повторяться, чтобы сохранить впечатление от заметок. Форстер очень хвалит Вашего Гамлета. Что бы я сейчас не дал, чтобы посмотреть на него! Но меня утешает мысль, что мы вернемся домой (с божьей помощью) прежде, чем закроется выставка.
Как бы Вы отнеслись к предложению совершить несколько прогулок верхом и пешком, когда наступит лето, побродить ночью, побывать в театрах, пообедать вместе? Могу ли я надеяться, что когда мы вернемся, то хотя бы несколько недель будем Вам милее Вашей любимой Академии? Что касается меня, то, если бы, сойдя на берег в Ливерпуле, я увидел на пристани Ши собственной персоной, я забыл бы прошлое и протянул ему руку. Честное слово!
Вообразите только, что Кэт и я, совсем как королева и принц Альберт, каждый день устраиваем приемы (великий боже, как кричат и трубят о них газеты!) и принимаем всех, кому только взбредет на ум прийти к нам. Вообразите - нет, вообразить это невозможно, нужно видеть все собственными глазами, - как время от времени среди гостей вдруг появляется кто-нибудь из граждан сей республиканнейшей страны и, не снимая шляпы, принимается с восхитительной непринужденностью разглядывать мою особу, чувствуя себя совершенно как дома. На днях один такой патриот пробыл у нас два часа, причем единственное его развлечение за все это время состояло в том, что сей житель Нового Света иногда ковырял в носу да выглядывал из открытого окна на улицу, приглашая своих сограждан подняться к нам и последовать его примеру. Вообразите, как в Нью-Йорке, сойдя с парохода на берег, я оказался в густой толпе и как двадцать или тридцать человек принялись рвать мех со спины моей великолепной шубы, купленной на Риджент-стрит и стоившей уйму денег! Вообразите, что наши открытые приемы бывают каждый день, и вы поймете, как я отношусь к этим людям, когда приходят все новые и новые лица, готовые говорить и спрашивать без конца, а я устал до изнеможения! Вагон поезда похож на огромный омнибус. Стоит поезду остановиться в каком-нибудь городке, как люди толпой окружают вагон, опускают все окна, просовывают внутрь головы и начинают глазеть на меня, обмениваясь впечатлениями по поводу моей внешности, столь же мало смущаясь моим присутствием, как если б я был каменным истуканом. Ну, что вы скажете об этом? - как вы любите говорить.
Ваш верный друг (хоть и не академик).
Передайте самый искренний привет всем своим домашним.
105
ФОРСТЕРУ
Снова на борту "Мессенджера",
из Сент-Луиса обратно в Цинциннати,
пятница, 15 апреля 1842 г.
В Цинциннати мы пробыли еще сутки после того дня, которым было помечено мое последнее письмо, и уехали оттуда в среду утром 6-го. Мы прибыли в Луисвилл в первом часу ночи, там же и спали. На другой день, в час, сели на пароход и в воскресенье 10-го прибыли в Сент-Луис около девяти часов вечера. Первый день мы посвятили осмотру города. На следующий день, во вторник двенадцатого, я отправился с небольшой группой (нас было четырнадцать человек) взглянуть на прерии; вернулись в Сент-Луис в полдень тринадцатого; присутствовали на вечере и на балу (это не был обед), заданном в мою честь того же числа, а вчера, в четыре часа дня, повернули назад по направлению к дому. Слава богу!
Цинциннати всего пятьдесят лет, но это очень красивый город; едва ли не самый красивый из всех, что я здесь перевидал, - за исключением Бостона. Он вырос внезапно, посреди леса, как город из "Тысячи и одной ночи"; он удачно распланирован; предместья его украшены хорошенькими виллами; кроме всего - и это для Америки редкость, - в нем можно увидеть ровные газоны и незапущенные сады. При мне там происходил праздник трезвости, и рано утром вся процессия выстроилась и прошла под самыми нашими окнами. Собралось, должно быть, по меньшей мере тысяч двадцать человек. Среди знамен попадались достаточно курьезные. Например, у корабельщиков на знамени с одной стороны было изображено славное судно "Трезвость", несущееся на всех парах, а с другой горящий пароход "Алкоголь". Ирландцы, разумеется, несли портрет отца Метью *. А что касается широкого подбородка Вашингтона (между прочим, у него не очень приятное лицо), то он мелькал повсюду. Они дошли до подобия площади на одной из окраин города, там разделились, и к каждой группе обратились с речью ораторы. В жизни не доводилось мне слышать более сухих речей.
Признаться, мне было не по себе от мысли, что их будут запивать одной водой.
Вечером мы пошли в гости к судье Уоркеру, где - оптом и в розницу - нам представили по крайней мере полтораста человек, и все как на подбор были удручающе скучные. С большей частью из них мне пришлось сидеть и разговаривать! Ночью нам задали серенаду (как почти во всех местах, где мы останавливаемся), и притом отличную. Впрочем, мы ужасно измучены. Мне даже кажется, что черты моего лица уже складываются в привычную скорбную мину, благодаря постоянной и непрерывной скуке, какую мне приходится терпеть. Литературные дамы лишили меня моей природной жизнерадостности. А на подбородке у меня (справа, под нижней губой) появилась неизгладимая складка - след, оставленный тем самым господином из Новой Англии, о котором я писал Вам в последнем своем письме. В углу левого глаза у меня морщинки, появление которых я приписываю влиянию литераторов малых городов. Ямочка на щеке пропала, и я даже сам чувствовал, как ее у меня похищает некий мудрый законодатель. С другой стороны, своей широкой улыбкой я обязан П. Э. *, литературному критику из Филадельфии и единственному блюстителю грамматической и идиоматической чистоты английского языка в этих краях; да, я обязан своей улыбкой ему, П. Э., человеку с прямыми лоснящимися волосами и отложным воротником, который взял в работу нашего брата английского литератора, разделался с нами энергично и бескомпромиссно, но зато сообщил мне, что я означаю "новую эру в его жизни".
Последние двести миль из Цинциннати в Сент-Луис приходится плыть по Миссисипи, так как Охайо впадает в нее у самого ее устья. К счастью для человечества, дети этого Миссисипи, прозванного Отцом всех вод, не походят на своего родителя. Во всем мире нет более гадкой реки... Вы можете представить себе, какое это удовольствие - нестись по такой реке ночью (как, например, вчера) со скоростью пятнадцать миль в час, когда ваше судно поминутно натыкается на обвалившиеся в реку деревья и рискует наскочить на коряги. Рулевой на этих судах находится на мостике в маленькой застекленной будке. Когда же плывешь по Миссисипи, на самом носу парохода становится еще один человек, который все время напряженно всматривается и прислушивается да, прислушивается, потому что в темные ночи наличие каких-либо крупных помех впереди определяют по звуку.