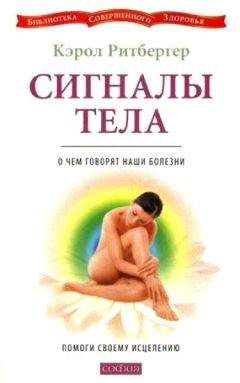Генрих Бёлль - Глазами клоуна
Я поехал дальше и прибыл во Франкфурт около четырех утра, остановился в гостинице, которая была мне не по карману, и позвонил в Бонн Марии. Я боялся, что ее не окажется дома, но она сразу же подошла к телефону и сказала:
— Ганс, слава богу, что ты позвонил, я так беспокоилась.
— Беспокоилась? — спросил я.
— Да, — ответила она, — я звонила в Оснабрюк, и мне сказали, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт. Сейчас же.
Я принял ванну, заказал в номер завтрак и заснул; часов в одиннадцать меня разбудила Мария. Ее как будто подменили, она была очень ласковая и, пожалуй, даже веселая. Я спросил ее:
— Ну как, надышалась католическим воздухом?
Мария засмеялась и поцеловала меня. О встрече с полицией я ей ни слова не сказал.
13
Некоторое время я раздумывал, не подлить ли мне еще раз горячей воды, но вода в ванне уже никуда не годилась, и я понял, что пора вылезать. От воды колену стало хуже, оно опять распухло и совсем затекло. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть было не упал на красивый кафельный пол. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и попросить, чтобы он пристроил меня в какую-нибудь акробатическую труппу. Растеревшись полотенцем, я закурил и начал разглядывать себя в зеркале: здорово я осунулся. Зазвонил телефон, и на секунду у меня проснулась надежда, что это Мария. Но звонок был не ее. Может быть, звонил Лео. Хромая, я добрался до столовой, снял трубку и сказал:
— Алло.
— Надеюсь, — произнес Зоммервильд, — вы не прервали из-за меня двойное сальто.
— Я не акробат, а клоун, — сказал я, приходя в бешенство, — и разница между этими профессиями, во всяком случае, такая же большая, как между иезуитом и доминиканцем... А если уж я решусь на что-нибудь двойное, так не на сальто, а на убийство.
Он засмеялся:
— Шнир, Шнир, — сказал он. — Вы меня не на шутку тревожите. Неужели вы приехали в Бонн только для того, чтобы объявить нам всем по телефону войну?
— Разве я вам звонил? — спросил я. — По-моему, вы позвонили мне.
— Это не так уж важно, — возразил он.
Я молчал.
— Я прекрасно знаю, — начал он опять, — что вы меня недолюбливаете, не удивляйтесь, но я вас люблю, вы должны только признать за мной право проводить в жизнь определенные принципы, в которые я верю и которые я представляю.
— Если потребуется, то даже силой, — сказал я.
— Нет, нет, не силой, а всего лишь с надлежащей настойчивостью, возразил Зоммервильд; он произносил слова очень четко, — как это необходимо в деле с известной нам особой.
— Почему вы называете Марию «особой»?
— Потому что, с моей точки зрения, очень важно рассматривать это дело как можно более объективно.
— Вы глубоко заблуждаетесь, прелат, — сказал я, — это дело в высшей степени субъективное.
Я мерз в халате; сигарета намокла и курилась кое-как.
— Если Мария не вернется, я убью не только вас, но и Цюпфнера.
— Ради бога, не впутывайте сюда Хериберта, — сказал он сердито.
— Хорошенькие шуточки, — сказал я, — некий господин уводит у меня жену, но как раз его-то и нельзя впутывать.
— Он не некий господин, а фрейлейн Деркум не была вашей женой... И потом никто ее у вас не уводил, она сама ушла.
— Совершенно добровольно, не так ли?
— Да, — подтвердил он, — совершенно добровольно, хотя, возможно, в ней боролись чувственное и сверхчувственное начала.
— Ах так, — сказал я, — в чем же вы видите сверхчувственное начало?
— Шнир, — прервал он сердито, — я считаю вас, несмотря ни на что, хорошим клоуном... но в богословии вы совершенно не сведущи.
— Я сведущ в нем ровно настолько, чтобы понять, — сказал я, — что вы, католики, поступаете со мной, неверующим, так же жестоко, как иудеи поступали когда-то с христианами, а христиане с язычниками. Вы мне все уши прожужжали: закон, богословие... и все это, в сущности, из-за какого-то идиотского клочка бумаги, который должно выдать государство, да, государство.
— Вы путаете повод и причину, — сказал он, — но я вас понимаю, Шнир, я вас так хорошо понимаю.
— Ничего вы не понимаете, — сказал я, — и в результате заповедь о супружеской верности будет нарушена дважды. Один раз Мария нарушит ее, выйдя замуж за вашего Хериберта, второй раз она ее нарушит, когда в один прекрасный день опять сбежит ко мне. Ну, конечно, я мыслю недостаточно тонко и я недостаточно творческая личность, а главное, недостаточно хороший христианин, чтобы какой-нибудь прелат мог сказать мне: «Лучше бы вы, Шнир, продолжали свое внебрачное сожительство».
— Вы не улавливаете самого существенного — богословского различия между вашим случаем и тем, о котором мы в свое время спорили.
— А в чем различие? — спросил я. — Видимо, в том, что у Безевица более чувствительная натура... и что для вашего католического общества он тяжелая артиллерия.
— Да нет же, — он и впрямь рассмеялся. — Нет. Различие церковно-правовое. Б. жил с разведенной женой, на которой при всем желании не мог жениться по церковному обряду, в то время как вы... одним словом, фрейлейн Деркум не была разведенной женой и вашему браку ничто не препятствовало.
— Я же согласился подписать эту бумажку и был готов даже вступить в лоно церкви.
— Готовы из чистого презрения.
— Хотите, чтобы я притворялся верующим, изображая чувства, которых у меня нет? Раз вы требуете соблюдения чисто формальных условий, настаиваете на праве и на законе... тогда почему вы упрекаете меня в отсутствии чувств?
— Я вас ни в чем не упрекаю.
Я молчал. Зоммервильд был прав, и это угнетало меня. Мария ушла сама, конечно, они встретили ее с распростертыми объятиями, но, если бы она хотела остаться со мной, никто не заставил бы ее уйти.
— Алло, Шнир, — сказал Зоммервильд. — Вы меня слушаете?
— Да, — сказал я, — я вас слушаю. — Разговор с ним я представлял себе совсем иначе. Я хотел поднять его с постели часа в три ночи, отчитать как следует и припугнуть.
— Чем могу вам помочь? — спросил он тихо.
— Ничем, — сказал я, — разве что убедить меня в том, что секретные переговоры в ганноверской гостинице велись с одной целью — укрепить любовь Марии ко мне... и я вам поверю.
— Вы совершенно не хотите понять, Шнир, что в отношениях фрейлейн Деркум к вам наступил кризис.
— А вы были тут как тут и показали ей всякие законные церковно-правовые лазейки, чтобы она могла расстаться со мной. А я-то считал, что католическая церковь противница разводов.
— Боже мой, Шнир, — воскликнул он, — не можете же вы требовать, чтобы я, будучи католическим священнослужителем, помогал женщине упорствовать в грехе и жить вне брака?
— А почему бы и нет? — сказал я. — Ведь вы толкаете ее на путь разврата и супружеских измен... И если вы, будучи священником, согласны отвечать за это — воля ваша.
— Ваш антиклерикализм меня поражает. С этим я встречался только у католиков.
— Я вовсе не антиклерикал, не воображайте, я просто антизоммервильдовец, потому что вы нечестно играете и потому что вы Двуличны.
— Боже мой, — сказал он, — откуда вы это взяли?
— Слушая ваши проповеди, можно подумать, что у вас душа широкая, как парус, ну а потом вы начинаете строить козни и шушукаться по углам в гостиницах. Пока я в поте лица своего добываю хлеб насущный, вы ведете секретные переговоры с моей женой, не потрудившись даже выслушать меня. Это и есть нечестная игра и двуличие... Впрочем, чего можно ждать от эстета?
— Ладно, ругайте меня, возводите напраслину. Я вас так хорошо понимаю.
— Ничего вы не понимаете; вы медленно, капля по капле, вливали в Марию отвратительную мутную смесь. Я предпочитаю напитки в чистом виде; чистый картофельный спирт для меня милее, чем коньяк, в который что-то подмешано.
— Продолжайте, вам необходимо отвести душу, — сказал он, — чувствуется, что вас это глубоко затрагивает.
— Да, меня это затрагивает, прелат, и внутренне и внешне, потому что дело идет о Марии.
— Настанет день, когда вы поймете, что были несправедливы ко мне, Шнир. И в этом вопросе и во всех других... — он говорил чуть ли не со слезой в голосе, — а что касается смесей, то вы забываете, быть может, о людях, которые испытывают жажду, сильную жажду; лучше уж дать им не вполне чистый напиток, чем вовсе ничего не дать.
— Но ведь в вашем священном писании говорится о чистой, прозрачной воде... Почему вы не даете ее жаждущим?
— Быть может, потому, — сказал он с дрожью в голосе, — что я... что я, если следовать вашему сравнению... стою в самом конце длинной цепи, черпающей воду из источника. В этой цепи я сотый или даже тысячный, и вода не может дойти до меня незамутненной... и еще одно, Шнир. Вы слушаете?
— Слушаю, — сказал я.
— Можно любить женщину, не живя с ней.
— Вот как! — сказал я. — Теперь в ход пошла дева Мария.
— Не богохульствуйте, Шнир, — сказал он, — это вам не к лицу.
— Я вовсе не богохульствую, — сказал я. — Допустим, я могу уважать то, что недоступно моему пониманию. Но я считаю роковой ошибкой, когда молодой девушке, которая не собирается идти в монастырь, предлагают брать пример с девы Марии. Как-то раз я даже прочел целую лекцию на эту тему.