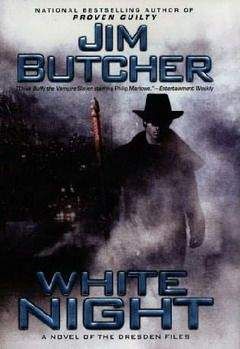Сюзанна Тамаро - Только для голоса
Мне предстояло все начинать сначала. Да, но с чего? С себя самой. Сказать это легко, но как же трудно сделать. Где я была? Кем я была? И когда в последний раз я была сама собой?
Я уже говорила тебе, что целыми часами бродила по плоскогорью. Иногда, чувствуя, что одиночество приведет к еще более мрачному состоянию души, я спускалась в город и, смешавшись с толпой, блуждала по главным улицам, пытаясь найти какое-нибудь облегчение.
Постепенно такие прогулки превратились для меня как бы в работу. Я уходила из дома вслед за Аугусто и возвращалась вместе с ним. Врач, лечивший меня, пояснил ему, что иногда при нервном истощении вполне естественно подобное стремление много двигаться. Поскольку мне не приходят мысли о самоубийстве, значит, мое поведение ничуть не опасно и следует позволять мне двигаться сколько угодно. Побегаю, побегаю, уверял он, и в конце концов успокоюсь. Аугусто согласился с объяснениями врача, хотя не знаю, поверил ли ему или, быть может, просто хотел жить спокойно; так или иначе, я была благодарна ему за то, что он весьма кстати отошел в сторону и не мешал мне бороться с моими мучительными переживаниями.
В одном, пожалуй, врач был прав: при такой сильной депрессии и нервном истощении у меня все же не возникала мысль о самоубийстве. Странно, но это и в самом деле было так, даже ни на одно мгновение после смерти Эрнесто мне не приходило подобное желание, и не думай, будто меня удерживала Илария. Я уже говорила тебе, что в то время мне не было до нее абсолютно никакого дела. Скорее где-то в глубине души я догадывалась, что моя утрата, столь неожиданная, не была — не должна была и не могла быть самоцелью. Здесь таился какой-то смысл, и этот смысл представлялся мне в виде огромной, массивной ступени. Она находилась передо мной, чтобы я поднялась на нее? Возможно, именно все так и было, но я не могла представить себе, что же увижу, поднявшись на нее.
Однажды я заехала на машине в какое-то место, где никогда не бывала прежде. Между холмами, заросшими кустарником, стояла маленькая церквушка в окружении небольшого кладбища, а на вершине одного из холмов высился чей-то светлый замок. Немного поодаль от церкви находились два или три крестьянских домика, куры свободно разгуливали по дороге, лаяла черная собака. На дорожном указателе было написано: «Саматорца». Название это было созвучно со словом «одиночество» — выходит, самое подходящее место, где можно собраться с мыслями.
Я стала подниматься по каменистой тропинке, уходившей вверх, даже не думая, куда она приведет меня. Солнце уже опускалось к горизонту, но чем дальше я шла, тем меньше мне хотелось остановиться, время от времени я вздрагивала от вскриков сойки. Что-то явно манило меня дальше, а что это было, я поняла, когда вышла на большую открытую поляну и увидела посреди нее огромный, величественный дуб. Ветви, раскинутые, словно руки, казалось, готовы были обнять меня.
Смешно говорить, но, едва я увидела этого великана, сердце мое забилось совсем иначе, оно не столько стучало, сколько урчало, будто довольный маленький зверек. Так урчало оно, только когда я бывала с Эрнесто. Я опустилась на землю под дубом, я приласкала его, потом оперлась спиной и затылком о его ствол.
Gnotbi seauton — так еще девочкой я написала на титульной странице своей тетради по греческому языку. У подножия огромного дуба эти слова, похороненные в памяти, вдруг снова пришли мне на ум. «Познай самого себя». Я вздохнула легко и свободно.
16 декабря
Сегодня ночью выпал глубокий снег, едва проснувшись, я увидела, что весь сад укрыт белым одеялом. Бэк носился по поляне как сумасшедший, прыгал, лаял, хватал зубами ветки и бросал их в сторону. Позднее пришла навестить меня синьора Райзман. Мы попили кофе, она пригласила меня вместе с ними провести рождественский вечер. «Что же вы делаете целыми днями?» — поинтересовалась она, уходя. Я пожала плечами. «Ничего, — ответила я, — немного смотрю телевизор, немного размышляю».
О тебе она никогда ничего не спрашивает, деликатно обходя эту тему, но по ее тону я понимаю, что она считает тебя неблагодарной. «Молодые люди, — нередко вставляет она вдруг в разговор, — бессердечные, не уважают стариков, как когда-то». Чтобы она не развивала подобную тему, я соглашаюсь с нею, а в глубине души уверена, что сердце всегда остается сердцем, просто теперь меньше ханжества, вот и все.
Молодые люди, конечно же, не эгоисты, точно так же, как старики — отнюдь не мудрецы. Понимание или легкомыслие зависят не от возраста, а от того пути, какой каждый проходит. Где-то, не припомню уж где, я прочитала не так давно поговорку американских индейцев: «Прежде чем судить кого-то, проходи три луны в его мокасинах». Она так понравилась мне, что я записала ее в блокнот возле телефона.
Если смотреть со стороны, многие судьбы кажутся неверными, неразумными, безумными. Пока смотришь со стороны, легко ошибиться в людях и в их предназначениях. Только изнутри, только проходив три луны в их мокасинах, можно постигнуть их побуждения и чувства, понять, что заставляет человека действовать так, а не иначе. Понимание рождается смирением, а не гордыней.
Кто знает, наденешь ли ты мои туфли, прочитав эту историю? Надеюсь, что да, и думаю, станешь долго бродить по комнатам, не раз обойдешь сад, от орехового дерева к вишневому, от вишневого к розе, от розы к столь неприятным черным соснам возле ограды. Я надеюсь, что так случится, и вовсе не потому, что хочу выпросить у тебя прощение, не ради посмертного отпущения грехов, просто все сказанное мною необходимо тебе самой. Понять, откуда ты происходишь, что было до нас, — первый шаг, иначе невозможно идти дальше без лжи.
Это письмо я должна была бы в свое время написать твоей матери, но я отправляю его тебе. Не напиши я его совсем, вот тогда действительно мое существование завершилось бы полным крахом. Допускать ошибки — дело естественное; уходить из жизни, не поняв их, — значит лишать свое существование на земле всякого смысла. Все, что с нами происходит, никогда не вызывается осознанной самоцелью, не бывает безвозмездным, каждое, даже незначительное событие заключает в себе какой-то смысл, и понимание самого себя рождается от готовности принять этот смысл, от способности в любой момент изменить направление жизни, сбросить старую кожу, словно ящерицы при смене времени года.
Если б тогда, почти сорок лет назад, мне не вспомнились вещие слова из моей тетради по греческому языку, если б не поставила я тогда точку, прежде чем двинуться дальше, то продолжала бы повторять те же самые ошибки, какие допускала раньше. Чтобы изгнать воспоминание об Эрнесто, я могла бы найти себе другого любовника, а потом еще и еще одного; в поисках его копии, в попытке повторить пережитое я могла бы перебрать хоть десяток мужчин. Не нашлось бы никого, кто был бы похож на оригинал, и я, все более неудовлетворенная, пошла бы дальше, возможно, уже старая и смешная, окружила бы себя молодыми людьми.
Или же возненавидела бы Аугусто, в сущности, ведь именно из-за него я не могла принимать наиболее крутые решения. Понимаешь? Искать виновных, когда ты не в силах заглянуть в себя, — это самое простое, что только можно делать на свете. Внешняя причина всегда найдется, и необходимо иметь много мужества, чтобы признать: вина — или, вернее, ответственность — ложится только на нас. И все же, я уже говорила тебе, это единственный способ двигаться вперед. Если жизнь похожа на долгую дорогу, то это дорога, которая все время идет в гору.
В сорок лет я поняла, от какой точки я должна исходить. Понять, куда я должна была прибыть, — это процесс долгий, со множеством препятствий, но волнующий. Знаешь, теперь по телевидению и в газетах мне приходится слушать и читать всякие наставления различных лидеров. Как же много людей готово следовать за ними. Меня пугает, что их столько, этих учителей со всякими программами, какие они предлагают для обретения мира в своей душе и достижения всеобщей гармонии. Это антенны какого-то чудовищного всеобщего заблуждения.
В сущности, мы ведь находимся в конце тысячелетия, и хотя все подобные даты — чистая условность, все равно немножко страшно, все ждут, что должно произойти нечто ужасное, все хотят быть подготовленными к этим событиям. И тогда идут к вождям, записываются в разные партии, пытаясь найти себя, а спустя месяц уже набираются наглости, отличающей пророков, конечно мнимых пророков. Какая же огромная, бог весть какая по счету ложь!
Единственный учитель, который существует на свете, единственный настоящий и вызывающий доверие, — это собственная совесть. Чтобы обнаружить ее, нужно побыть в тишине — одному и в тишине, — надо стоять на земле босиком, а вокруг не должно быть ничего, как будто ты уже умер. Поначалу ты ничего не чувствуешь, а только испытываешь ужас, но затем начинаешь различать вдали какой-то голос, спокойный голос, и, может быть, поначалу он даже будет раздражать тебя своей банальностью.