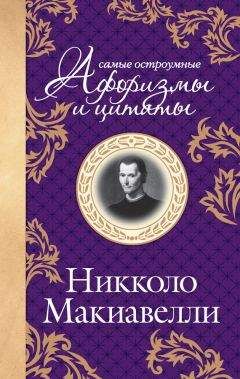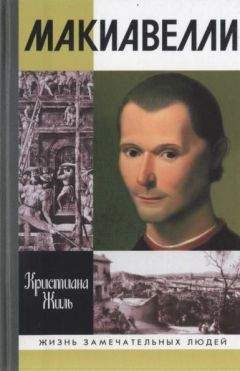Тарас Шевченко - Журнал
P. S. Далее не жди тож от Тараса, о! бедное, им любимое человечество! никакого толку и большого величия, и мудрого слова, ибо – опохмелившийся, яко некий аристократ (по писанию крестивыйся водкою; опохмеление не малое и деликатности не последней водка вишневая счетом пять (а он говорит 4, нехай так буде), при оной цыбуль и соленых огурцов велие множество.
12 [сентября]
Погода отвратительн[а]я. «Князь Пожарский» и «Сусанин» положили на ночь якорь в Спасском затоне. Это зимняя стоянка парохода Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские, квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак. Местность прекрасная, окруженная молодыми дубовыми рощами, и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилася свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет и, как истинный Терсис Посошков, преподнес его милейшей баронессе Медем, одной из пассажирок «Князя Пожарского» и жене одного из капитанов Меркуриевской компании. Милая, привлекательная женщина.
Утро ясное, с морозом до пяти градусов. К двенадцати часам дня погода по-вчерашнему изменилась в перемежающий дождь с снегом. «Князь Пожарский» благополучно перешел Красновидовский перекат (мели) и в одиннадцать часов вечера положил якорь в десяти верстах от Казани.
13 [сентября]
Казань-городок —
Москвы уголок.
Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Едва пароход успел положить якорь, как я выскочил на берег, поместился за четвертак в татарской тележке и пустился в город. Как издали, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, – везде, на каждом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, Московская), ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного грандиозными тремя ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию недостает площади. Оно бы много выиграло, и монумент певца Екатерины не красовался бы на дворе в миниатюрном палисаднике, меланхолически созерцаемый рудою коровою.
Полюбовавшись вместе с рудою коровою статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, почему и заключил, что он не новичок в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему с вопросом, не помнит ли он Посяду и Андруского, переведенных в 1847 году из Киевского университета в Казанский. Он сказал, что не помнит, и советовал мне обратиться к старому сторожу Игнатьеву. Я вежливо поблагодарил его за наставление, но, не находя нужным применить к делу это милое наставление, я вышел на улицу. Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять за четвертак взял татарскую тележку и возвратился на пароход.
Возвращаясь на пароход, я увидел в правой стороне от дороги памятник, воздвигнутый над костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютого. Печальный памятник.
14 [сентября]
По случаю принятия нового груза пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега. Пользуясь этим редким случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я вышел на берег и сделал два абриса: общий вид Казани и вид на Волгу против Казани и села Услон. Возвращаясь на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого отваренно[го] ляща. И придя на пароход, задал себе настоящий плебейский пир. Кроме ляща и новопетровской ветчины, заключил я свой пир головкой чесноку с черным хлебом и провонял не только капитанскую светелку, всего «Князя Пожарского». Сопутники мои бегали от меня, как черт от ладану. Одна только милая хозяйка и добрейшая ее мамаша Катерина Никифоровна Козаченко нашли, что чеснок хотя и воняет, но не так несносно, чтобы при встрече со мною необходимо было закрывать нос, и еще более, чтобы доказать им, господам, не любящим чесноку, что чеснок вещь не только не противная, но даже приятная, обещалися заказать обед с чесноком и обкормить хулителей. Милейшая Катерина Никифоровна.
Против города Свияжска прошли благополучно Васильевский перекат (мель) и встретили пароход «Адашев» Меркуриевской же компании. Он буксирует две баржи с дровами и одну из них посадил на мель. «Князь Пожарский» попытался было стащить ее с мели, но безуспешно, и, пройдя несколько верст вперед, положил якорь на ночь, из опасения сесть на Вязовском перекате. Выше устья Камы Волга заметно сделалася уже и мельче.
15 [сентября]
Проспал я ровно до девяти часов утра. Надо думать, что это случилось со мною под глухой шум «Князя Пожарского», потому что со мною этого прежде не случалося, ни даже под нетрезвую руку. Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением. Будто бы Дубельт с своими помощниками (Попов и Дестрем) в своем уютном кабинете перед пылающим камином меня тщетно навращал на путь истинный, грозил пыткой, и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на ученье. Тем и кончилось это позорное сновидение. Меня разбудил гром падающего якоря, т. е. цепи, перед Ураковским перекатом.
Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей Ураковский перекат, я нарисовал белым и черным карандашом, довольно удачно, портрет Михайла Петровича Комаровского, будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги.
В 10 часов вечера «Князь Пожарский» положил якорь перед Гремячевским перекатом.
За ужином Нина Александровна наивно рассказывала содержание «Дон Жуана» Байрона, который она прочитала на днях в французском переводе. И еще милее и наивнее просила своего мужа учить ее английскому языку.
16 [сентября]
СОБАЧИЙ ПИР
(ИЗ БАРБЬЕ)
Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал;
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал;
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик;
Когда, в ответ на гул старинных пушек, грянул
Свободы звучный клик!
Конечно, не было там [видно] ловко сшитых
Мундиров наших дней;
Там действовал напор, лохмотьями прикрытый,
Запачканных людей.
Чернь грязною рукой там ружья заряжала,
И закопченным ртом
В пороховом дыму там сволочь восклицала:
«Ебена мать, умрем!»
А эти баловни в натянутых перчатках,
С батистовым бельем,
Женоподобные, в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?
Нет! Их там не было, когда, все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась!
А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали за занавеской,
На корточки присев!
Их не было в виду, их не было в помине
При общей свалке там.
Затем, что, видите ль, свобода не графиня
И не из модных дам,
Которая, нося на истощенном лике
Румян карминных слой,
Готова в обморок при первом падать крике,
Под первою пальбой.
Свобода – женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке.
17 [сентября]
Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е.А. Панченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере на половину будет в нем домов и церквей. И все старинномосковской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики – православие. Неудобозабываемый Тормоз по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул. Он теперь на одном волоске держится.