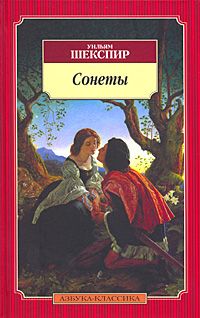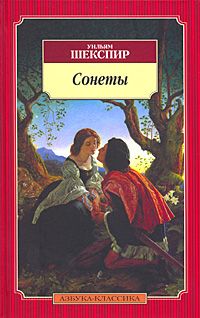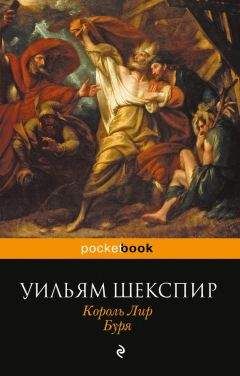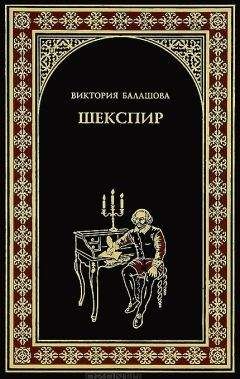Зигфрид Ленц - Живой пример
— А сцена в игорном зале? — спрашивает Пундт. — Игра, которую они ведут друг против друга, поначалу у автоматов, а затем у настольного кегельбана? Разве это ни о чем не говорит? Разве проигрыш Калле не завязка для хорошего рассказа, в котором наказание не только неизбежно, но и подготовлено? Именно в тот миг, когда парнишка проигрывает материнские деньги — позже он одолжит еще денег у приятеля и проиграет их тоже, — уже подготовлена неизбежность наказания, причем совершенно незаметно. Разве вы с этим не согласны?
Хеллер готов с этим согласиться, но он задается вопросом — и не устанет задаваться этим вопросом, — может ли такая мать служить примером, который им нужен и который говорит сам за себя? Ведь что происходит? Мальчишка проиграл материнские деньги, а ведь та их с трудом наскребла, проиграл затем еще больше и так попал в жестокие тиски. Что при этом представляется нам неминуемым? Преступление. Судя по всему, мальчишкам придется пойти на преступление, и не участвовать в нем Калле никак не может, ведь он двойной должник. Нет, Хеллер не в силах ничего с собой поделать, но, на его взгляд, все это безумно заезжено, вас со всех сторон обступают стертые стереотипы, и вдали к тому же маячит слащавый роман из иллюстрированного журнальчика. Его не так коробила бы эта история, если бы приятели свистнули потребные им деньги на бензоколонке, из кассы ночного кино, или, если уж это обязательно, из заведения со стриптизом; но вправе ли они, составители хрестоматии, взвалить на себя ответственность за поворот событий в новелле — мальчишки ограбили именно тот ломбард, в который мать Калле заложила обручальное кольцо? Можно ли еще больше переложить патоки? И не ноют ли у него, Пундта, зубы, когда ему предлагают глотать подобное варево?
Теперь-то Пундт достает фунтик с сухими фруктами и усиленно угощает Хеллера, тот берет наконец сушеное яблочное кольцо, кладет себе на колено.
— Попозже, я съем его попозже.
— Дорогой коллега Хеллер, пытались ли вы когда-нибудь подсчитать, сколько было в вашей жизни будто подстроенных совпадений? Вот видите! Вполне понимаю ваш скепсис, ваше неприятие того обстоятельства, что ломбард, в котором мальчики раздобыли себе деньги, именно тот самый, но, быть может, ваш скепсис пойдет чуть на убыль, если я скажу вам, что как раз ломбарды — наиболее предпочитаемые объекты ограбления. В этом случае реальная жизнь — а точнее говоря, реальная статистика — оправдывает автора.
— Безотрадно все это, — вздыхает Хеллер, — если права реальная жизнь, сразу же наступает сплошная безотрадность.
Этот довод вовсе не убеждает Валентина Пундта, для него реальная жизнь — это то, чем все измеряется, но если теперь ему позволено будет признаться, что не удовлетворяет в предложенной новелле его самого и что он хотел бы в ней увидеть, то он скажет следующее:
— Калле с приятелями забрался, стало быть, в ломбард. Вы ведь помните, в кассе оказалось всего несколько мелких монет, этими деньгами Калле не расплатиться с долгами, а потому он прихватывает часы и драгоценности, сколько влезает в карманы. Ночной сторож их спугнул, мальчишки спасаются бегством и теряют друг друга из виду. После тщетных поисков, уже в предрассветной мгле, Калле возвращается домой. Мать заснула у стола. Вы сохранили эту картину в памяти? Да? Тогда вы, конечно же, помните, что мальчик тотчас ложится в постель, а мать прибирает его вещи и тут-то обнаруживает ночную добычу. Мать извлекает все из его карманов, складывает часы, кольца, ожерелья в коробку. А теперь, дорогой коллега, мне хотелось бы кое-что добавить: среди ворованных вещей матери надо бы найти свое обручальное кольцо, которое она сама отдала в залог. Разве не придала бы подобная ситуация драматизма? Разве не придал бы этот поворот всей новелле большую связность? Мальчик, сам того не ведая, крадет кольцо, которое мать заложила, что бы раздобыть денег ему на развлечения? А?
— Да это же Чайковский, — отвечает Хеллер, — я так и слышу за кадром этого фильма музыку Чайковского. А если бы еще существовала УФА[6], такой фильм сняли бы всенепременно. Не в обиду будь сказано, господин Пундт, но эту новеллу не спасти никакими поправками.
— А концовка?
— Концовка, разумеется, говорит в пользу матери, на сей раз мать приводит полицейских к постели мальчишки, видимо, надеется, что ему смягчат наказание, в новелле ведь есть намек, что коробку с краденым она возвратит в ломбард.
Но Валентин Пундт не оценивает концовку так категорично, не такая уж она пресная: скорее как раз неясность мотива и кажется ему привлекательной для толкования; привела мать полицейских к постели сына только затем, чтобы избавить его от новых обвинений, или ее побудило к этому свойственное ей чувство справедливости? Новеллу можно понимать и так и эдак, по бесспорно одно: здесь речь идет о примере, который не взирает на нас с альпийских высот, о примере из повседневной жизни, к тому же персонажи взяты из социальных низов, как того и желал Хеллер.
Янпетер Хеллер поднимает сушеное яблочное колечко к глазам, помедлив, дует на него резко, коротко, точно сдувая с него пыль, снова внимательно оглядывает и все еще не решается откусить от него кусочек, а кладет теперь на письменный стол. Нет, он никак не может проголосовать за предложение госпожи Зюссфельд, хотя в новелле имеется приемлемый хрестоматийный конфликт: разлад между чувством сострадания и чувством справедливости; в целом его, Хеллера, эта история не удовлетворяет.
— Поверьте мне, господин Пундт, прежде чем взяться за предложенную мне работу, я перерыл десяток хрестоматий. Если наше общество таково, каким оно отражено в этих книгах, то мы, представляется мне, все как один живем в каком-то идиллическом мире. Отцам достаточно засучить рукава, чтобы решить все проблемы, а матери, кажется, только для того и существуют, чтобы вознаградить любое горестное испытание сладким пирогом. Я твердо решил, что результат нашей работы будет иным.
Валентин Пундт порывисто встает, подходит к окну и дольше обычного смотрит в темноту, а затем говорит, полуобернувшись, через плечо:
— Мне бы хотелось знать, к чему мы пришли — к началу работы или к ее концу?
— Не будем падать духом, — подбадривает его Хеллер, — у нас есть еще надежда.
— Мне трудно поверить, — продолжает Пундт, — чтобы в наше время не нашлось такого примера образцового поведения, который мы приняли бы единодушно, без споров и скрипа. Примерные поступки — они же совершаются всюду и везде, неприметно и приметно.
— Но от того, что они совершаются, — подхватывает Хеллер, — они еще не обязательно годятся в хрестоматию. Каждый из нас подал предложение и каждый, надо полагать, удивился возникшим у других сомнениям. Это доказывает лишь, что мы не нашли верного примера.
— Так, быть может, нам пуститься на поиски сообща? — задает вопрос Пундт.
— Стучат.
— Простите?
— Кто-то стучит, — говорит Хеллер, — уже второй раз.
В коридоре стоит Магда, мрачная, разобиженная, все, о чем ее просят, сопряжено, по-видимому, с обидой.
— Так вот, к телефону вызывают господина Пундта, я перевела разговор наверх, аппарат в коридоре, вы можете, господин Пундт, просто взять трубку.
Пундт кидается к телефону, хотя он мог бы подойти к аппарату иначе, более сдержанно, но он кидается в коридор, словно ждет известия чрезвычайной важности.
Хеллер бросает яблочное колечко в кулек с сушеными фруктами. Склонившись над письменным столом Пундта, он открывает толстенную рукопись «Создание алфавита».
Читает:
«…хотя узелковое письмо, иероглифическое письмо и логогриф внесли свой вклад, но ныне можно со всей основательностью утверждать, что матерью всех новых используемых алфавитов был финикийский алфавит. Без сомнения, этот алфавит явился достижением высокого художественного уровня. Слог в нем обозначается согласной, согласные господствуют, они — носители значения слова; гласные, которые надобны читателю, он сам и добавляет.
Читатель, стало быть, вынужден с помощью им самим найденного гласного оттенять значение того или иного слова — к какому же творческому, скрупулезно внимательному чтению обязывает такой алфавит! Среди семитских народов это, впрочем…»
Хеллер захлопывает рукопись: он чувствует, что за ним наблюдают.
— Слушаю вас, фрейлейн Магда.
Магда стоит в дверях, ведущих в коридор. Она хотела бы от имени госпожи Клевер высказать просьбу: господин Хеллер уже в четвертый раз уносит оружие из конференц-зала в свою комнату, у них это не принято, поэтому она повесила на место и стрелу, и нож, а говорит это, просто чтобы он знал.
— Судя по моим действиям, вы можете понять, как мне тут у вас страшно, — говорит Хеллер и продолжает, разыгрывая озабоченность, — не знаете ли вы, как мне побороть свой страх?