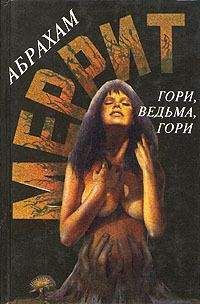Уильям Шекспир - Шекспировские чтения, 1976
История трагического героя Шекспира начинается Брутом и кончается Кориоланом ("Ромео и Джульетта" и "Тимон Афинский" - только пролог и эпилог трагедии, первое действие которой - "Юлий Цезарь" и последнее - "Кориолан"). В. Фарнхем пишет: "Юлий Цезарь" - веха не только в истории шекспировской трагедии, но и в истории английской трагедии. До Брута на английской сцене не было трагического героя, в чьем характере благородное величие сочеталось бы с роковым несовершенством" {W. Farnham. Shakespeare's Tragic Frontier. Los Angeles, 1950, p. 3}. "Роковое несовершенство" Брута - его ошибка. Но ошибка эта - только неточность в рассуждении, обусловленная непониманием духа времени. Она не вытекает из самих свойств его "натуры", не заложена в нем. Поэтому ему выбор дается еще легко. И сам момент выбора помещен в начале пьесы. Он точно локализован в монологе Брута (II, 1). Основное внимание уделено здесь последствиям выбора. Именно они составляют основу и трагедии государства, и трагедии личности. "Юлий Цезарь" еще во многом связан с хроникой, с множественностью ее героев, с судьбой государства в центре ее внимания.
Если "Юлий Цезарь" - начало шекспировской трагедии, то "Антоний и Клеопатра" находится на ее вершине. Выбор Антония не локализован здесь в одном монологе или одной сцене, ему посвящено все действие драмы. "Рим" и "Восток" заложены в самом Антонии, как заложены в нем невозможность отречения от любой из сторон его натуры и его неполноценность как только полководца или только влюбленного. И Антоний, как Брут, характеризуется своими врагами как воплощение человеческого начала; но Брут противопоставляется несовершенным людям, Антоний - совершенным богам.
Кориолан остается неизменным, верным себе на протяжении всей трагедии. Момент выбора приходится теперь на самый конец пьесы. Только в конце жизни Кориолан отказывается от своего нечеловеческого идеала и возвращается к людям, к природе. Без этого он как герой не мог бы существовать в мире шекспировской трагедии. Но он подходит к пределу этого мира.
В "римской трилогии" решения и поступки героев как бы накладываются на другой, объективный план действия - течение Времени. Временем, соответствием ему или противоречием с ним определяются объективная правильность выбора и его последствия. Брут не угадывает духа времени, он ошибается в выборе и погибает. Антоний и Клеопатра достигают синтеза, это решение субъективно единственно возможное для каждого из них. Но век, в котором они живут, требует уже не "синкретического", а "однозначного" характера. Такой тип характера намечен в Октавии Цезаре и полнее - и в героическом его варианте раскрывается в Кориолане. Антоний и Кориолан принадлежат к разным поколениям. Они были созданы в тот момент, когда уходило поколение Антония и появлялось поколение Кориолана. Кориолан - крайняя точка развития шекспировского героя. В нем предчувствие нового, нешекспировского века, требующего иной, нешекспировской, трагедии, иного, нешекспировского, героя.
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ФОНЕ АНГЛИЙСКОЙ "ТРАГЕДИИ МЕСТИ" НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВЕКОВ
В. Захаров
В эпоху, предшествовавшую родовому строю, личная, в том числе и кровная, месть не связывалась в сознании людей с понятием долга, роковой повинности, неисполнение которой влекло за собой бесчестие пострадавшему или его ближайшим сородичам. Месть воспринималась даже не как акт правосудия, восстановления справедливости, но как естественное следствие превосходства сильного над слабым. Удел слабого заключался в том, чтобы оставаться неотомщенным, и окружающим это казалось естественным и не вызывало чувства протеста. Лишь позднее, с укреплением рода, осознавшего себя как некое единство, противопоставленное другим родам, месть стала пониматься как нравственный долг. За увечье или ущерб, нанесенный одному члену рода, мстили все его сородичи. Такое переосмысление было неизбежным на том этапе развития общества, когда нельзя было достичь возмездия, апеллируя к верховной власти {См.: W. E. Wilda. Das Strafrecht der Germanen. Halle (Saale), 1842, S. 157; E. S. Tobien. Die Blut-Rache nach altem Russischen Rechte, vergleichen mit der Blut-Rache der Israeliten und Araber, der Griechen und Romer und der Germanen. Dorpat, 1840, S. 9-10; F. Liebermann. Die Gesetze der Angelsachsen, Bd II. Halle (Saale), 1898-1916, S. 320-322.}.
В жизни европейских народов существование обычая личной мести было связано именно с такими историческими условиями, при каких сводилась на нет или крайне ограничивалась роль правосудия, отправляемого верховной властью государством, юрисдикции которого должны были подлежать все члены общества. В средневековой Англии слабость центрального государственного аппарата не компенсировалась наличием власти на местах, так как последняя обычно не могла взять на себя функцию посредничества между враждующими родами или даже отдельными лицами. Личная месть была, таким образом, своего рода "диким правосудием" (a kind of wild justice), no словам Френсиса Бэкона {См.: F. T. Bowers. Elizabethan Revenge Tragedy, 1587-1642. Princeton, 1940, p. 3.}, так как давала потерпевшему единственную возможность восстановить честь или возместить понесенные убытки.
Напротив, с укреплением государственной власти в стране наблюдается обратная тенденция. Правительство делает решительные попытки вмешаться в то, что представлялось до сих пор частным делом члена общества. В этом смысле показательным было установление права короны на часть вергельда (wergeld, дословно "плата за человека"), т. е. денежной суммы или товаров, которыми ответчик возмещал убытки потерпевшего {Т. P. Ellis. Welsh Tribal Law and Custom, vol. II. Oxford, 1926, p. 136.}. Эта дань укрепляла в общественном сознании представление о том, что ущерб, нанесенный подданному, не безразличен и для государства. Можно полагать, что уже в начале XVI в. преступление против личности, безоговорочно рассматривалось как вызов государственной власти {L. O. Pike. A History of Crime in England, vol. I. London, 1876, p. 290-292.}. Существовало, однако, и обстоятельство, тормозившее развитие нового взгляда на права потерпевшего. Личная месть зачастую оказывалась куда более скорой и действенной, нежели неповоротливая и продажная машина правосудия.
В XV в. личная месть стала настоящим бедствием в стране, охваченной пламенем феодальных войн. В исторических хрониках того времени можно почерпнуть сведения об убийствах, грабежах и пытках, учиненных по мотивам личной мести. Некоторые из описанных случаев вызывают в памяти печально знаменитые анналы родов Медичи и Борджиа в Италии, откуда столько раз черпали сюжеты своих "кровавых трагедий" английские драматурги Возрождения. Число таких злодеяний, судя по хроникам той эпохи, было весьма значительным {"Chronicles of London". C. Kingsford (Ed.). Oxford, 1905, p. 172.}.
Укрепление централизованной власти в первой половине XVI в. имело следствием осуждение рецидивов "дикого правосудия" и противодействие им. Идеологи абсолютизма рассматривали личную месть во всех ее проявлениях (например, дуэль) как угрозу устоям государства. Дуэлянтам инкриминировалось неуважение к закону, а всякое "нерегламентированное" убийство с заранее обдуманным намерением, имевшее целью отомстить за нанесенную обиду без посредничества закона, рассматривалось как тягчайшее преступление {T. Birch. The Court and Times of James I, vol. I. London, 1848, pp. 265-266.}. Официальную точку зрения на прерогативу власти выразил Френсис Бэкон, заявивший по поводу одного дела о дуэли в 1615 г.: "...когда месть исторгается из рук судьи вопреки божьей заповеди mihi vindicta, ego retribuam {мне отмщение, и аз воздам (лат.).}, и каждый обнажает меч не для защиты, но для нападения, частные же граждане начинают воображать себя облеченными законами карать кого бы то ни было за свои обиды, тогда никто не может предвидеть опасности и затруднений, какие могут возникнуть и умножиться... Спорщики могут объединиться в банды... произойдут волнения и мятежи, которые приведут к расторжению семей и союзов и более того - к гражданской войне" {"A Complete Collection of State Trials from the Earliest Period to the Year 1783", T. Howell (Ed.), vol. II. London, 1816, p. 1032.}. Бэкон аргументировал здесь прерогативу монарха быть единственным арбитром во всякого рода конфликтах. Из его доводов следует, что личная месть уже рассматривалась как пережиток феодальных времен и подвергалась суровому осуждению. Церковь не замедлила встать на сторону государства. Древний библейский закон Моисея, поощрявший кровную месть, теперь либо замалчивался, либо истолковывался по-иному, в духе новых веяний. Основным аргументом церкви было приведенное Бэконом библейское изречение "мне отмщение, и аз воздам". В 1612 г. епископ Холл предрекал двойную гибель - души и тела тем, кто ослушается божьей заповеди {"Works of Bishop Hall", vol. V. P. Wynter (Ed.). Oxford, 1863, p. 76.}.
Однако сильное противодействие государства и церкви практике личной мести не приводило к сколько-нибудь заметному сокращению числа кровавых инцидентов. Например, количество дуэлей и преступлений, совершенных из мести, резко возросло к концу царствования Елизаветы и в первые годы после восшествия на престол короля Иакова. Многочисленные дворцовые заговоры, борьба между католиками и протестантами и народные волнения воскрешали в памяти трагическую эпоху междоусобных войн прошлого столетия и более близкое по времени правление королевы Марии Кровавой; во всех слоях общества зрела неудовлетворенность своим состоянием, росла неуверенность в завтрашнем дне. Монархия, напрягавшая все силы в борьбе с пуританским парламентом, уже не могла совладать с обострившимся кризисным положением в стране.