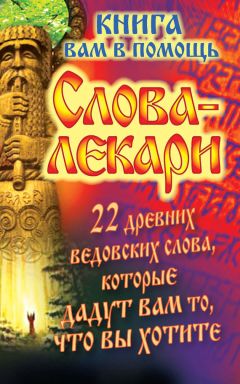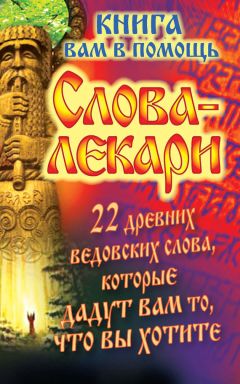Андре Мальро - Надежда
— Поздравляю, — сказал Гарсиа. — Вы одержали первую победу в войне…
— Вот как? Ну что ж, тем лучше. Я передам ваши поздравления: командиром группы был Сембрано.
Они дружелюбно рассматривали друг друга. Маньен впервые лично сталкивался с одним из начальников военной разведки; что касается Гарсиа, то он слышал о Маньене каждый день.
Все в Гарсиа удивляло Маньена: и то, что этот испанец высок и широк в кости, и то, что у него лицо крупного английского или нормандского помещика, и его большой вздернутый нос; и что у этого интеллигента лицо благодушное и веселое, и острые уши; и что этот этнолог, подолгу живший в Перу и на Филиппинах, даже не загорел. Кроме того, он всегда представлял себе Гарсиа в пенсне.
— Небольшая колониальная экспедиция, — снова заговорил Маньен, — всего шесть самолетов… Разбомбили несколько грузовиков на дороге.
— Самой результативной была бомбардировка не дороги, а Медельина, — сказал Гарсиа. — На площадь упали несколько бомб крупного калибра. Заметьте, что серьезно марокканцев бомбили впервые. Колонна вернулась в отправной пункт. Это наша первая победа. Но все же Бадахос взят. Значит, армия Франко соединяется теперь с армией Молы.
Маньен вопросительно посмотрел на него.
И поведение Гарсиа тоже удивляло его: он ждал от него скорее замкнутости, нежели добродушной открытости.
— Бадахос ведь у самой португальской границы, — сказал Гарсиа.
— Шестого «Монтесармиенто» выгрузил в Лисабоне четырнадцать немецких самолетов и сто пятьдесят специалистов, — сказал Варгас. — Восемнадцать бомбардировщиков вылетели восьмого из Италии. Позавчера двадцать прибыли в Севилью.
— «Савой»?
— Не знаю. И еще двадцать итальянских вылетели.
— Помимо восемнадцати?
— Да. В каких-нибудь две недели против нас будет сотня современных самолетов.
Если «юнкерсы» были плохи, то бомбардировщики «савой» превосходили по своим качествам всё, чем располагали республиканцы.
Вместе с запахом листьев в открытое окно врывались звуки республиканского гимна из двадцати репродукторов.
— Я продолжаю, — сказал Гарсиа, снова принимаясь за чтение. — Это о Бадахосе, сегодня утром, — сказал он Маньену.
5 часов. Марокканцы только что заняли форт Сан-Кристобаль, уже почти разрушенный бомбардировкой.
7 часов. Вражеская артиллерия, установленная в форте Сан-Кристобаль, непрерывно обстреливает город. Ополченцы держатся. Областная больница разрушена воздушной бомбардировкой.
9 часов. Восточные укрепления города в развалинах. На юге горят казармы. У нас остается только два пулемета. Артиллерия Сан-Кристобаля продолжает огонь. Ополченцы держатся.
11 часов. Вражеские танки.
Он отложил напечатанный на машинке текст, взял другой.
— Второй рапорт краткий, — с горечью сказал он.
12 часов. Танки у собора. За ними следует пехота. Она отброшена.
— Хотел бы я знать — чем. В Бадахосе было всего четыре пулемета.
16 часов. Враг входит в город.
16 час. 10 мин. Идет бой за каждый дом.
— В четыре часа? — спросил Маньен. — Но позвольте, в пять нам сообщили, что Бадахос наш.
— Сведения только что поступили.
Маньен представил себе залитые в этот час солнцем улицы тихого города, вымощенные щебнем. В тысяча девятьсот четырнадцатом он начинал войну артиллеристом; там его не удивляло, что он ничего не знает о ходе боя; но там он ничего и не видел. И этот город по-прежнему казался ему тихим и мирным, а там ручьями текла кровь. Он был так же далеко от него, как и от Бога. «Танки у собора…» Собор отбрасывает огромную тень, рядом — узкие улочки, арены цирка…
— В котором часу кончился бой?
— За час до вашего полета, если не считать боев в домах…
— Вот последнее донесение, — сказал Гарсиа, — примерно от восьми часов. Может быть, немного раньше; передано с наших позиций, если таковые еще существуют…
Арестованные фашисты освобождены целыми и невредимыми. Ополченцы и все подозреваемые задержаны и расстреляны. Расстреляно уже около тысячи двухсот человек. Обвинение: вооруженное сопротивление. Два бойца расстреляны в соборе, на ступенях главного алтаря. Марокканцы носят скапуларий[52] и «Сердце Иисусово»[53] на груди. Расстреливали весь день. Расстрелы продолжаются.
Маньен вспомнил, как Карлыч и Хайме в знак приветствия размахивали платками над теми, кого расстреливали.
Ночная жизнь Мадрида, республиканский гимн из всех громкоговорителей, песни и приветственные возгласы, то громкие, то тихие, — весь этот гул надежды и энтузиазма, которыми жила эта ночь, снова наполнил тишину. Варгас покачал головой.
— Хорошо, что поют… — И, понизив голос: — Война будет долгой… Народ полон оптимизма. Политические руководители тоже. Майор Гарсиа и я, по своей натуре мы тоже…
Он озабоченно поднял брови. Когда Варгас подымал брови, лицо его становилось добродушным и сразу молодело; и Маньен подумал, что он никогда не представлял себе Дон Кихота молодым.
— Подумайте об этом дне, Маньен: с вашими шестью самолетами (маленькая колониальная экспедиция, как вы говорите) вы остановили колонну. А колонна своими пулеметами смела ополченцев и взяла Бадахос, причем ополченцы отнюдь не были трусами. Эта война будет войной техники, а мы ее ведем, говоря только о чувствах.
— Однако Сьерру отстоял народ.
Гарсиа внимательно рассматривал Маньена. Как и Варгас, он считал, что это будет война техники, и не верил, что руководители рабочих станут специалистами по мановению волшебной палочки. Он предвидел, что судьба народного фронта отчасти будет находиться в руках специалистов, и все в Маньене интересовало его: его скованность, кажущаяся рассеянность, усталость, от которой он валится с ног, облик старшего мастера (на деле он был инженером-электриком), взгляд за старомодными очками, выражавший энергию и выдержку. В Маньене — из-за усов — было что-то от типичного краснодеревщика парижского предместья Сент-Антуан; и вместе с тем в тюленьих губах, выдававших его годы, в глазах, когда он снимал очки, в жестах, в улыбке проступала сложная духовная жизнь интеллигента. Маньен был инженером одной из главных французских линий, и Гарсиа, который никогда не судил людей по престижности их должностей, старался разглядеть в Маньене просто человека.
— Народ великолепен, Маньен, великолепен! — сказал Варгас. — Но он бессилен.
— Я был на Сьерре, — сказал Гарсиа, тыча в сторону Маньена чубуком своей трубки. — Разберем по порядку. Сьерра озадачила фашистов; позиции там были исключительно благоприятны для герильи[54], народ способен на очень сильный и очень короткий удар. Дорогой господин Маньен, мы одновременно и питаемся и отравляемся двумя-тремя мифами. Прежде всего — французы. Народ — с большой буквы — совершил Французскую революцию. Прекрасно. Но из того, что сотня пик может одержать верх над плохими мушкетами, еще не следует, что сотня охотничьих ружей уничтожит хороший самолет. Дело еще осложнила русская революция. В политическом отношении она — первая революция XX века. Но, заметьте, в военном отношении она — последняя в XIX. Ни авиации, ни танков в царских войсках, у революционеров — баррикады. Как появились баррикады? Чтобы сражаться против королевской кавалерии, потому что у народа кавалерии никогда не было. Сегодня Испания покрыта баррикадами против авиации Франко. Наш милейший председатель совета министров тотчас после отставки отправился с ружьем на Сьерру… Может быть, вы недостаточно знаете Испанию, господин Маньен? Хиль, наш единственный стоящий конструктор самолетов, только что погиб на фронте рядовым пехотинцем.
— Позвольте, революция…
— Это не революция. Спросите лучше у Варгаса. Мы — народ, да; но это не революция, хотя мы только об этом и говорим. Я называю революцией следствие восстания, руководимого кадрами (политическими, техническими, какими хотите), спаянными в борьбе, способными быстро занять место тех, кого они уничтожают.
— И главное, Маньен, — сказал Варгас, подтягивая свой комбинезон, — инициатива исходила не от нас, как вам известно. Мы должны сформировать кадры. У Франко вовсе нет кадров, кроме военных, но с ним два известных вам государства. Никогда добровольцы не разобьют современную армию. Врангели были разбиты Красной Армией, а не партизанами…
Гарсиа скандировал слова, отбивая такт своей трубкой:
— Отныне не будет социальных перемен, а тем более революций, без войны, как и войны без техники. А…
Варгас одобрительно кивал головой в такт опускавшейся трубке Гарсиа.
— Люди не пойдут на смерть ради техники и дисциплины, — сказал Маньен.