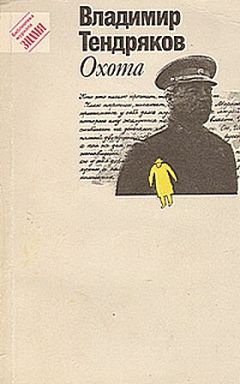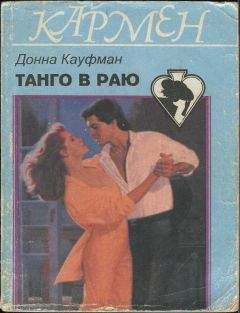Стефан Хвин - Гувернантка
Я снова подумал о панне Эстер, о Васильеве, о том, что нужно сделать. Да где же этот Мелерс? Почему не появляется? Но Игнатьев только усмехнулся: «Чего беспокоиться? Советник Мелерс сейчас будут», — после чего не спеша подвел меня к узкому, окованному медью сундуку, где на мягкой фиолетовой — цвета адвентовых[35] облачений — ткани лежало несколько обломков камня. Но откуда этот внезапный страх, кольнувший сердце, словно я приблизился к чему-то, от чего мне бы следовало держаться подальше?
Из-за окна доносился приглушенный шум города, голоса, пение, шаги, обычные люди, обычная жизнь — а здесь? В гостиной советника Мелерса все было чужое — и зачаровывающее. Освещение и блеск красного дерева, поразительно похожий на живого заводной пеликан, сверкнувший на солнце медными чешуйками перьев, складная подзорная труба, с помощью которой — как знать — возможно, удалось бы разглядеть не только далекие корабли, но и невидимые глазу созвездия, голландский латунный микроскоп, смахивающий на урну, в каких хранят дорогой прах предков, оправленные в серебро лупы, выпуклые, кристально чистые, как замерзшая капля родниковой воды, глобус с готическими названиями континентов, приглашающий в опасное путешествие за горизонт, и астролябия, на кругах которой тонкими линиями были обозначены золотые траектории комет… Я не мог противиться впечатлению, будто мне открывается нечто, о чьем существовании я давно догадывался и от чего защищался изо всех сил.
А пальцы Игнатьева легонько постучали по стеклянной крышке сундука, словно хотели разбудить то, что покоилось на темном плюше. «Видите ли, мы изрядную часть Сибири исходили, чтобы все это отыскать… И не ради рублей, — в его голосе — я не ошибся! — прозвучала гордость, — не ради рублей, Александр Чеславович, а для размышлений». Потом так и посыпалось: «источник знаний», «светоч мудрости», «человеческий разум». Я не сумел сдержать улыбки, слыша эти возвышенные слова из уст слуги. Игнатьев был на голову выше меня, светловолосый, еще очень красивый, темные, почти девичьи губы едва приоткрывались, когда он неторопливо, понизив голос, рассказывал о сокровищах, лежащих под стеклом.
Но где же советник Мелерс? Почему задерживается? Неужели — именно так я подумал много-много дней спустя, когда, возвращаясь воспоминаниями к первому посещению дома на Розбрате, мысленным взором вновь увидел обставленную красным деревом гостиную, — неужели своим долгим отсутствием советник Мелерс давал мне время освоиться с близкими его сердцу тайнами, которые он скрывал здесь от посторонних глаз: ведь чем иным, если не хранилищем этих тайн, была затемненная комната, где на нижних полках лежали минералы и раковины с разных концов света, над ними выстроились тома правительственных указов с позолоченными кожаными корешками, а еще выше, под потолком топорщили перья коричневые и черные чучела птиц из Якутии и с Алтая?
А под стеклом? На фиолетовом плюше возле раковин Nautilusa, раковин-жемчужниц, раковин Strombus покоились раковины Goliath и раковины Meleagrina. А дальше — белые скелеты рыб, розовые крабы и морские звезды. Рядом с заключенными в стеклянные ампулы сверчками, жуками и скорпионами — радужных расцветок бабочки на булавках, больше похожие на античные броши и амулеты из драгоценных металлов, чем на некогда живых насекомых. Потом мы подошли к витрине со стальной окантовкой, и глаза Игнатьева потеплели: «А тут у нас образцы золота из Кремницы и Семипалатинска». Здесь же на фиолетовом плюше лежали три якутских алмаза, поблескивающие в толще серого камня, — вероятно, трофеи, привезенные из какой-то сибирской экспедиции, поскольку Игнатьев только щелкнул пальцами: «Из Билимбая и Нижнего Тагила! А это гольдклюмпен[36] из Александровского Завода, подарок самого графа Демидова».
Потом Игнатьев с важностью произнес: «Вы, вероятно, спросите, по какому принципу все это собиралось. Охотно отвечу. Главное тут — вы, должно быть, уже догадываетесь — загадка сходства. Будьте любезны взглянуть вон туда, — Игнатьев приоткрыл стеклянную крышку, чтобы я мог лучше рассмотреть чудесные формы на фиолетовом плюше. — Что это? Как вы думаете?» Я неуверенно наклонился: «Какое-то растение?» Игнатьев шутливо покачал головой: «Посмотрите, пожалуйста, внимательнее». Я наклонился еще ниже: листья? побеги? корни? «Редкостное наскальное растение?» Игнатьев усмехнулся: «Нет, никакое не растение. Это минерал. Халькантит». Значит, эти листья, растущие, изгибаясь, из розовой скалы, эти живые побеги?.. А Игнатьев только кивнул, предлагая их потрогать: пальцы ощутили холодную твердость камня.
Минералы, поразительно похожие на растения, и растения, поразительно похожие на минералы? Так вот чем увлекался в свободное время советник Мелерс? Вот что такое таинственная «коллекция», о которой столько говорили? Подземный мир, чьи формы вводили в заблуждение всякого, кто пытался руководствоваться простыми представлениями об аналогии? Значит, эти сахарные кусты, эти зеленоватые пушистости… мертвы? А Игнатьев между тем приоткрыл крышку сундука с растениями коралловых рифов, но и тут я не сумел различить, где кончается жизнь и начинается смерть, что здоровое, а что больное, ибо изумительная горгония с тасманских рифов была так похожа на ветви арагонита, что я никогда бы ее не принял за живое растение. Ну а дальше? Живой перламутр опалов, минералы, похожие на трутовики и сизую плесень, кальциты, красотой не уступающие листьям клена, сколезиты, выглядевшие, как колония опят, антимониты, смахивающие на ежей, «Steinsalz», подобная всклокоченной седой шевелюре, радужный, как павлиний хвост, «irisquartz», кишкообразные извивы малахита, а в стеклянном шаре, в котором сверкнуло, отразившись, солнце, на адвентовом плюше влажно поблескивал округлый «augenagat», словно вынутый из глазницы скользкий человеческий глаз с черным зрачком!
Боже милостивый! Я помню ту минуту тишины над стеклянной поверхностью. Живое и мертвое. Страх, зачарованность, смех. Кто-то играет со мной в угадайку? Но кто и зачем? Я почувствовал себя так же, как в венском Naturhistorisches Museum, куда однажды зашел, но там все чудеса Земли были аккуратно разложены в дубовых витринах, иллюстрируя мировой порядок, здесь же, в домашней обстановке, прихотливо перемешанные, окрашенные радостью личного открытия, они нарушали покой, напрямую сталкивая тебя с тайной, которая в другом месте существовала где-то на обочине, то есть душе была безразлична. Кто бы стал по собственной воле заглядывать в темные подземные бездны, в гроты и пещеры, где то, что рождается в жидком чреве Земли, еще не зная, чем желает быть, ищет свою форму ощупью, вслепую, а значит, может стать чем угодно? Душа норовит держаться подальше от подобных мест — и она права!
Пока я разглядывал заботливо разложенные на адвентовом плюше минералы, мне вдруг вспомнились потухшие глаза панны Эстер. Голубоватая кожа в углублении ключицы? Потемневшие ногти? Я подумал, что эти едва заметные перемены в затронутом болезнью теле, помутневшие зрачки, потерявшие блеск волосы… все эти едва заметные перемены как будто уже сейчас — при жизни — возвещают о постепенном, но неизбежном превращении тела в песок, в глину, в первичную, несформировавшуюся материю, которая не знает, чем хочет стать, да и станет ли чем-нибудь?
За окном громыхали по брусчатке подводы с пивными бочками, женщина кричала что-то проходящим мимо солдатам из Цитадели, зазывая их заглянуть «на огонек»; тарахтели тележки с овощами; прислуги с безудержной радостью переругивались с молоденьким лудильщиком, который, вызывающе счастливый, отвечал на их зацепки глуповатыми взрывами смеха; прапорщик из казацкого патруля, проезжавшего посреди мостовой, лениво сыпал замысловатыми азиатскими проклятиями; привычные отголоски города, пение, шаги, жизнь, не осознающая, что она жизнь; а здесь, в тишине полутемной комнаты, среди сверкания стекла, латуни и красного дерева, среди радужных отблесков солнечных лучей, преломляемых разложенными под стеклом кристаллами, мне открывалась какая-то потаенная сторона вещей, которую советник Мелерс хотел познать до конца — но, собственно, зачем?
Что тянуло его под землю, во мрак сибирских рудников, в дикий мир кристаллов и руд? Надежда, что там, в глубине Земли, в первобытной сфере, которую Бог от нас укрыл, чудо — явление столь же обычное, как и то, что солнце каждое утро встает над Прагой, а заходит над православным кладбищем на Воле?
Что же получается — что каждый предмет в обставленной красным деревом гостиной советника Мелерса намекает, будто собою он стал просто так, на пробу, и в любой момент — если только пожелает — может стать чем-то другим? И упрятанная под стекло природа, пренебрегая пристрастием человека к четким границам, демонстрирует свое капризное обличье, словно желая нас убедить, что забавы ради может все перевернуть, жизнь превращая в смерть, а смерть — снова в жизнь?