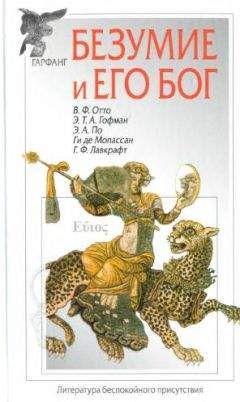Отто Вальтер - Немой. Фотограф Турель
СЕДЬМАЯ НОЧЬ
— Нет, — сказал Самуэль со своей койки, — мы не видели Шава.
Брайтенштайн расхохотался.
— Да ну его! Баба с возу — кобыле легче. Главное, что мы весело денек провели. Верно, Немой?
Лот стоял у своей раскладушки. Он расстегивал рубаху. «Весело», — подумал он. Он засмеялся, вернее, сделал попытку засмеяться, потом кивнул: «да», а Брайтенштайн, который сидел на столе и собирался стаскивать носки, снова расхохотался. Рядом с ним за столом Керер, младший Филиппис, Кальман и Гримм еще играли в карты. Позади, на границе освещенного пространства, сидел Гайм. Он читал свою маленькую затрепанную книгу. В тамбуре — Лот знал — возился отец, остальные, завернувшись в одеяла, уже лежали на своих койках. Хотя в комнате было холодно — печурка почти погасла, и больше никому, видимо, не хотелось подкладывать дрова, — холодно и сыровато, Немой почувствовал, как жаркая волна поднимается в нем при мысли о сегодняшнем дне, проведенном с Самуэлем и Брайтенштайном внизу, в Мизере. Уже лежа в постели и натянув одеяло до подбородка, он услыхал словно бы издалека голос Брайтенштайна: «Кальман, ты в следующий раз опять нас пошли. Верно, Немой? Нас вдвоем, Кальман, Немого и меня. Мы опять поедем».
— Что же там было такого веселого? — спросил младший Филиппис; он выигрывал.
Брайтенштайн:
— Ты знаешь, что значит настоящая пышная блондинка?
— Такая, что путается с тобой? — сказал Керер. — Нет уж, спасибо!
Лот услышал, как за столом расхохотались. Брайтенштайн был в отличнейшем настроении. Он подошел к Самуэлю, который уже завернулся в одеяло, сел в ногах его раскладушки и закурил сигару.
— О-о, — простонал Муральт со своей койки; он потянул носом, принюхиваясь, и сел в постели. — Высший сорт, — сказал он. — Послушай, дай курнуть.
Брайтенштайн еще раз глубоко затянулся, потом протянул сигару Муральту.
— Курни, — сказал он. — А знаешь, это подарок.
За столом снова засмеялись. Младший Филиппис повернулся к Брайтенштайну:
— Здорово расщедрилась!
Самуэль:
— Посмотрели бы вы на него, когда он возвратился! Сиял, как солнышко. Брайтер, говорю ему, ты что, увидел пасхального зайца? А он мне: «Ах, Сами, у меня все горит!»
Теперь хохот заглушил даже гул за окнами и над крышей, и — Лот увидел это, чуть-чуть приподняв голову, — даже отец показался в дверях; похоже, он собирался что-то сказать, с вопросительным и усмешливым выражением, но его все равно не услыхали бы из-за шума, а сам Брайтенштайн тер глаза и смеялся громче всех. Луиджи Филиппис подскочил на своей постели. Он, наверное, уже успел заснуть. «Что случилось?» — закричал он и удивленно посмотрел туда, где в свете лампы сидел Кальман и колотил кулаком по столу, а Керер, закашлявшись, чуть не свалился со скамьи. Самуэль, который тоже сел в постели, по-видимому, пытался пересказать всю историю Ферро и старшему Филиппису, но всякий раз доходил только до «Ах, Сами!», и тут приступ смеха снова не давал ему говорить.
Лот снова лег. Он натянул одеяло на лицо. Издалека к нему во мрак проникали обрывки смеха, слова Брайтенштайна — «штанишки», «блондинка», а потом полупьяные голоса затянули песню про девчонку, которой не было и семидесяти, а Лот лежал тихо-тихо, он приложил к носу правую руку и медленно дышал через нее, потому что хотел снова почувствовать ее запах, ее буйный, незнакомый запах, запах женщины. Но рука больше не пахла ею. Запах потерялся в дожде где-то на дороге. И все-таки сейчас, на короткое мгновение, Лот ощутил его, он снова увидел перед собой Марту, — увидел ее и в то же время увидел себя самого бегущим по мосту, увидел, как дождь низвергается на мостовую, увидел ботинки людей, проходящих мимо или останавливающихся и глазеющих ему вслед; увидел ее и услышал ее голос, и в то же время услышал, как его подбитые гвоздями башмаки равномерно стучат по асфальту, услышал свое тяжелое дыхание и испуганный стук своего сердца; увидел ее вплотную перед собой, крупным планом, совсем вплотную у своего лица, и в то же время ее за стойкой, и она не узнае́т его, когда он входит; или до этого: он увидел ее через окно, снова заглянул сквозь ослепительное стекло в полутемный зал, так зорко, как только мог, обвел взглядом стены и пустые столики, и испугался, когда она вышла из двери в глубине, не замечая, что он стоит напротив, у окна, и зашла за стойку, и, кроме нее, в зале было еще двое, за столиком в углу, справа, он скосил на них глаза через стекло, встал на цыпочки, на улице, не обращая внимания на прохожих, убедился, что ни один из них не Брайтенштайн, и, отойдя от окна, прошел прямо через открытую дверь в коридор, а потом в зал; или после этого (но видел он все почти одновременно): он сам за столиком, она приближается, у нее все та же светлая кожа и волосы, как темный ветер, она по-прежнему страшная, с этими выпуклостями под блестящей блузкой — теперь Лот знал, что это грудь, — она приближается и не узнает его, и что-то говорит про дождь, Лот не понимает ее слов, и она спрашивает его, что он будет пить или есть, и, так как он молчит, спрашивает, светлого или темного, и, когда он наконец кивает, уходит от него — у нее тонкие лодыжки — к стойке, наливает в стакан пива, возвращается, говорит: «На здоровье», и, не глядя больше на него, уходит, и исчезает в двери рядом со стойкой, и всего лишь секунду он еще охвачен ее ароматом, а потом он снова один, один за столиком, но все же видит ее, ибо она постоянно с ним, так же как жаркое колючее шерстяное одеяло, и в то же время с ним и та минута, когда он не мог больше сдерживаться и схватил ее за плечи и рванул к себе; он видит ее, как видел ее перед этим, перед тем, как он внезапно встал и в голове у него была одна мысль: «И она тоже, и она не узнает меня», и, не обращая внимания на двух стариков за столиком у двери, он прошел мимо них и мимо стойки к двери, в которую она вышла, распахнул эту дверь и увидел ее: она стояла, опершись о кухонный стол, она даже не подняла глаз, она водила пилочкой для ногтей по кончикам пальцев, и негромко спросила: «Да?», и когда он ничего не ответил и подошел ближе, а сердце у него неистово билось от страха и ожидания, она подула на ногти и подняла наконец глаза; такою он тоже видел ее, вполоборота к нему, и в глазах ее теперь мелькнуло узнавание; и, по-прежнему съежившись под грубым одеялом и прижимая к лицу ничем не пахнущие ладони, он услышал ее голос, в точности такой, как тогда, у голубых бензоколонок, — она тогда спросила «ты?»; и теперь он увидел ее улыбающееся лицо, прижался к нему губами; а до этого увидел самого себя, или, вернее, ощутил себя перед ней, — он и она теперь одни здесь в кухне, — и он увидел, как она рассеянно огляделась вокруг, как медленно подошла ко второй двери, открыла и, не волнуясь, выглянула, посмотрела налево, потом, сквозь щель у отворенной двери, направо — нет ли кого в темной передней; потом вернулась, двигаясь медленно, словно бы лениво, подошла ближе и тихо сказала: «Пойдем», и пошла впереди него, к третьей двери, и через нее в комнату, где стоял старый диван (не то небольшую гостиную, не то спальню); он увидел ее вплотную перед собой, как видел все это время, и одновременно увидел ее посредине комнаты, — она стоит и ждет, вполоборота к нему, — и увидел и ощутил самого себя, как он медлит закрыть дверь, и снова услышал ее голос, негромкий и тогда еще не враждебный: «До чего же ты грязный»; он видел ее и то, как она скользнула взглядом по его брюкам до промокших грязных горных ботинок и слышал слова, которые она произнесла, отходя к окну: «Нет, надо же, до чего грязный! Чего тебе? Ты его нашел?», и когда она снова посмотрела на него, он отчетливо прочитал ее мысли: «Господи, чего еще ему надо?! Что он себе вообразил?! Ведь я сказала ему все, что знала. Ведь он был здесь две недели назад, сперва месяц назад, а потом еще раз две недели назад, вошел, дошел до кухонной двери, и мне пришлось задавать ему вопросы, пока не выяснилось, что он хочет знать, где старик. Разве я не сказала ему все? Сказала: где-то там, на какой-то стройке, вряд ли в самом городе; скорее в окрестностях, на строительстве дороги. Нет, сам он здесь не был. Я случайно услышала, как про него говорили. Посетители, тоже дорожные рабочие, что-то про него рассказывали. Разве я не сказала ему все? Чего еще ему надо? Господи, разве я виновата? Это же все быльем поросло: этот давнишний случай, когда мы танцевали! Я его от души пожалела тогда, этого парнишечку. Сколько ему было, семь? Кажется, он сказал, что ему семь», — он читал все эти мысли, но не мог прочитать, что она думала еще: «Чего это он на меня так смотрит? Ну и глаза! Что я такого сделала? Сына это не касается. Конечно, я понимаю, но разве я виновата? Он и был-то у меня всего несколько раз. Адриан. Адриан Ферро, его отец, отец этого вот парня. Что это был за человек! Хотел меня. Непременно хотел меня, приставал, господи, как он гнался за мной вверх по лестнице в самый первый раз. Чего это парень на меня так смотрит? Ничего не понимаю. Только что он на меня злился. А теперь чудно, как у него вспыхивают глаза. Чудно, как он сейчас похож на своего старика, господи», — этого он прочитать не мог и медленно подошел ближе, и уже не помнил, чего ему, в сущности, от нее надо, ведь Брайтенштайна здесь нет, и, значит, он давно уже мог бы уйти, но он не уходил, а, наоборот, подходил все ближе и вдруг снова почувствовал жар, и сердцебиение, жар выжег в нем все, и он был не в силах думать, он вдохнул ее сладкий дурманящий запах, запах ее платья, и ее светлой кожи, подошел еще ближе, вплотную, увидел, как она отступила, и все-таки не остановился, придвинулся ближе, и, не в силах ни думать, ни дышать, потянулся к ее руке, ощутил шелковистую ткань, а вот и ее плечо, и теперь у него было только одно стремление — к темноте, к теплу; и услышал, как она зашептала: «Что с тобой, господи, ты что… сумасшедший мальчишка, нет, не смей, уходи, да уходи же», но он все еще не уходил, он сделал еще один, последний шаг к ней и словно бы погрузил в нее свое пылающее лицо, почувствовал на секунду, как прижимает ее к себе, ее твердое и мягкое тело, и ее волосы у себя на лбу, и на своих губах ее губы, хотя она тут же отвернулась, — почувствовал все это вновь и в то же время увидел со стороны, как это было; увидел внезапное превращение: ее брезгливый взгляд, она оттолкнула его, отшатнулась, мягкие плечи, извиваясь, выскользнули из его объятия; он увидел это и ощутил, и услышал ее теперь уже громкий голос: «Уходи! Ах ты, что ты себе вообразил, нет, не смей, отпусти, ты в точности как он, твой старик, да отпусти же меня, за кого ты меня принимаешь, нет, надо же, и еще в таком виде, весь в грязи, убирайся, вот дверь, и пей пиво где хочешь, только не здесь, что ты себе вообразил…» Он услышал это и увидел себя, как он оторвался от нее, медленно, не в силах думать, прошел через дверь в кухню, а оттуда в коридор, и в полутьме добрался до входной двери, не оглядываясь, вышел, постоял, ошеломленный, пытаясь языком разжать зажим у себя в горле, стоял до тех пор, пока она не вынырнула из-за его спины, и не протянула ему его плащ-палатку со словами «Возьми» и «А теперь иди», и не исчезла снова…