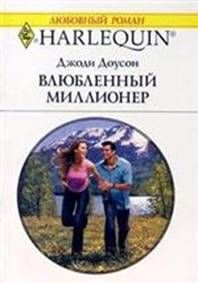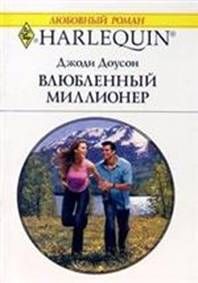Дмитрий Холендро - Ожидание: повести
И такая выпала неожиданная проверка дружбы!
Полетит ли Саенко в невинное небо над пустым морем, в котором завтра никто из рыбаков, кроме аютинских честолюбцев, не появится и где ничьи сейнеры больше не оставят следа?
Солнцу бывает трудно пробираться сквозь осеннее или зимнее небо. Оно завалено тучами, как серыми снегами, сплошь и до дна. И кажется, солнце зарывается в снежной глубине и стынет там, не разбрасывая ни над вами, ни над нами своих лучей.
А сейчас и небо непрочное, как летом.
Летнее небо тонкое. Каленый луч пропарывает его легким острием. От первого прикосновения оно лопается во всю длину, и уже бежит к берегу красная волна, выцветая на полдороге, потому что дорога от солнца до земли длинная, а солнце еще далеко, еще не плеснуло краску на все море, но горизонт уже вспорот, и вот-вот все остальные лучи полетят без задержки до гор и выше.
Так и светало. Ни дать ни взять, как в июле. На причалах толклись тени, заканчивали последнюю оснастку, готовились к импровизации.
Бухта у нас неглубокая, и сейнеры из предосторожности, а также чтобы не создавать сутолоки у причалов, ночуют на рейде. Береженого, говорят, бог бережет. Горбов в бога не верит и поэтому бережет себя сам. У причала ни одного сейнера на ночь не оставляет. А вдруг ветер? А вдруг волна? Что бы там барометр ни показывал.
На рейд, к сейнерам, рыбаков вывозят моторные баркасы, которые облегают причальные бока, как щенки. Вот в них-то прыгали и торопливо отходили от берега рыбаки, бригада за бригадой, под короткие наставления Ильи Захарыча, но один баркас задерживался, потому что Кирюха упирался.
— Саша! — кричал он. — Что же это такое? Зачем мне «Нырок»?
Дело в том, что Кирюху пересаживали на сейнер дяди Миши.
Импровизация импровизацией, но у кого наибольший шанс найти рыбу? У дяди Миши. Кто скорее всех ее не упустит? Ведь найти мало, надо поймать. Дядя Миша. Потому что дядя Миша — это дядя Миша.
К нему, на «Нырок», приготовились сесть и наши гости. Справедливости ради договорились, что всякий, кто раньше станет на рыбу, вызовет по радио «Нырок», и знаменитый дядя Миша повезет туда верных служителей голубого и простого экрана.
Но сначала они должны были снять отплытие баркаса к сейнеру. В баркас уже залезли все рыбаки с «Нырка» вместе с дядей Мишей, а Гена — сценарист, Алик — режиссер, Сима — оператор и сам Ван Ваныч заняли позицию на причале. Сейчас главным мне казался молчаливый Сима, он держал аппарат и время от времени смотрел в него. И вообще он был увешан аппаратурой, как будто его отправляли на Луну. А все остальные его друзья с пустыми руками выглядели неглавными.
Но кричал Алик.
— Вылезайте! — командовал он. — Кирилл! Вы нарушаете общую динамику. Придется всем вылезти и садиться снова. Садитесь вместе со всеми, слышите, вас снимут. Вы задерживаете работу. Рыба уйдет!
Но Кирюха не хотел садиться в чужой баркас и плыть на чужой сейнер.
— Сашка! — угрожающе молил он. — Выручи меня!
А Сашка сцепил зубы из гордости. Над ним и так смеялись все девчата из рыбного цеха, пришедшие посмотреть, как снимается кино. Они стояли, слизывали шелуху от семечек с мокрых губ и хихикали.
С крыши рыбного цеха на причал глазели прожекторы. Автобус киношников стоял у самой воды, из него вынесли тоненькие железные треноги с прожекторами, и они тоже светили, и из-за этого света ослепленный Кирюха не мог разглядеть Сашки, который сидел в стороне на бочке и о чем-то думал.
— Са-ашка!
Да, кино снималось серьезно, но Кирюха этого не понимал.
— Вылезайте, товарищи, еще раз!
— Не надо вылезать, — ежась, сказал Гена Кайранский, вынимая сигарету из пачки Ван Ваныча. — Пусть все сидят, а Кирилл прибежит последним, как будто он прощался с невестой и немножко опоздал. Так будет естественней. Он прибежит и прыгнет, когда уже заведут мотор. Это будет даже изюминка. Я кину текст. Согласен, Алик?
— Согласен. Оживит.
— Так вылезать или не вылезать? — спросил дядя Миша, стоя одной ногой в баркасе, а другой на причале.
— Нет.
— Заводи! — крикнул Ван Ваныч.
Затарахтел мотор.
— Ты понял, что от тебя требуется? — спросил Кирюху Илья Захарыч, терпеливо стоявший сбоку.
— Илья Захарыч! — ухватился за него Кирюха. — Как я ребятам буду в глаза глядеть?
— А что гостям говорить? — кричала с сияющего берега Алена.
— Беги, обними Алену и сейчас же в баркас, как тебе сказали.
— Для чего я все это должен делать, Илья Захарыч?
— Для кино, — отрубил Ван Ваныч. — Кино смотрит весь мир.
— И ребята понимают, что это только для кино, а не… — начал и замялся Илья Захарыч, но его выручил Алик:
— Это же не голый репортаж, а художественная работа! Важен принцип!
— Все это понимают! — окрепшим голосом договорил «пред». — Что ж, ты всех за дураков считаешь?
— Са-ашка-а!
— Если хочешь, чтобы я у тебя на свадьбе плясал, — пригрозил Илья Захарыч, — исполняй!
Кирюха сжал кулачищи и затопал сапогами по причалу, и доски пошли пружинить под ним, как резиновые.
— Черт те что! — пожаловался он Алене, обняв ее, но звук, чтобы вы знали (мы-то теперь все знаем), даже в звуковом кино записывается отдельно от изображения, и слова его на пленку не попали.
— Сима! — крикнул Алик, как командуют: пли!
Затрещал аппарат, и попало на пленку то, как Кирюха обнял Алену и как побежал, оглянулся два раза и прыгнул в баркас. За ним туда же осторожно спустились Алик, Сима и сам Ван Ваныч, стараясь остановить боковую качку.
— А ты? — спросил Ван Ваныч. — Гена! Я тебя, кажется…
— Я? — невинно переспросил Гена. — Что вы! Я на суше укачиваюсь. Сценарий у вас есть. Дядю Мишу и Кирилла снимайте побольше крупным планом, чтобы не было безликой массы…
— Уберите мотор! — с досадой заорал Алик. — Ничего не слышно!
Баркасный мотор заглох, как от испуга, а Кайранский натянул стоячий ворот малинового свитера на подбородок. Ему было холодно.
— Сашка! — пользуясь паузой, еще раз вяло крикнул Кирюха из баркаса.
— Зачем я вам бесчувственный в море, — сказал Гена сквозь ворот, — когда со мной можно отлично связываться, если я останусь невредимым на берегу? Я буду дежурить у рации.
— Отдавай концы, — жестко махнул рукой Ван Ваныч, будто перерубил веревку.
И баркас застрекотал и вильнул хвостом из белой пены. И погасли прожекторы, потому что навстречу поднималось солнце, которого не пересветить.
5А Сашка Таранец все еще сидел на бочке, свесив ноги и докуривая обжигающий пальцы чинарик.
— Не верят тебе? — спросил сзади знакомый голос.
Он обомлел, но не повернулся. Смял пальцами уголек окурка и бросил на песок, вытерпев боль. Подумал, как отшутиться, но ведь она не шутила, первый раз она говорила без насмешки, скорее сочувственно, и он сказал просто:
— Не верят, значит.
Это была Тоня.
Сашка спрыгнул с бочки, подошел и крепко взял девушку за плечи, и даже сквозь ватник прощупались плотные, нехрупкие округлости ее плечей. Он сдавливал их все сильнее, а она молчала.
— Ну, а ты мне веришь?
Теперь она повела плечами, усмехнулась и сказала:
— Пусти.
Он помедлил и отпустил. Не сделай он этого, она решила бы для себя, что он, как все, и как бы могла выделить его тогда, и как поверить ему?
Тоня мучила Сашку с прошлой осени, а то и раньше. Тогда, гораздо раньше, о них поговаривали, но после замолкли. У нас, в Аю, спокон веку такой негласный обычай — если у кого всерьез начинается, то люди слова о них не скажут. А вдруг это она, ну, она, любовь? Она и своих зряшных слов не терпит, а чужие слова ей вовсе ни к чему.
Я нахожу наш аютинский обычай замечательным.
Вот говорят, любовь — это контакт сердец. Соприкоснулись, высекли искру и пошли гореть. Наверно. Очень даже заманчиво встретить одному сердцу такое другое заряженное сердце. Что я в этом понимаю? Дальше Аю для обобщения опыта не выбирался. Не писатель, чтобы придумывать. Из золотого фонда мировой литературы, собранного в нашей библиотеке, знаю, что, где вспышки, там бывают и шишки. Если серьезно говорить, многовато в этой игре несчастий. Но молодости так свойствен риск, что я бы и сам рискнул… Ау, сердце!
Я против чего-либо неизвестного не выступаю.
Я хочу сказать, что есть такая любовь. С первого взгляда нараспашку.
Есть любовь, как терпеливое знакомство.
В первом случае, похоже, помешать не успеешь. Во втором самое важное не помешать. Удивительное дело! Люди так хотят сами себе добра, а столько зла принесли другим — и чем? Одними своими словами, одним своим лишним вниманием. Откуда у нас в Аю родилось это преклонение перед чудом любви, что о ней молчат, как только увидят, вот она впервые пришла к кому-то? Может, в людях замирала скверна перед целомудрием первого, самого чистого чувства? Может, одних останавливали горькие воспоминания, а других ожидание своего часа, своей тайны? Может, торжествовал русский принцип — в тесноте, да не в обиде? Ведь Аю — маленькое местечко, тут ни скрыть ничего, ни скрыться: представьте себе, все заговорят друг о друге — никакой личной жизни, а без личной жизни, что за жизнь? А может, просто-напросто действовал пример хороших людей.