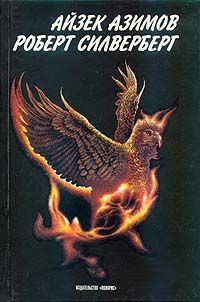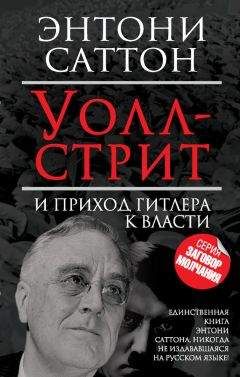Родди Дойл - Падди Кларк в школе и дома
— Изо рта фонтаном.
— Не может быть! — изобразил удивление папаня, — Пакость какая.
Он считал себя умником, делающим из несмышлёнышей посмешище. А на самом деле мы были умники, а он — посмешище и несмышлёныш.
— Кусками, — сказал Синдбад.
— Кусками, — повторил папаня.
— Жёлтыми комками, — поддакнул я.
— И на тетрадку, — сказал папаня.
— Ага, — кивнул Синдбад.
— И на учебник, — сказал папаня.
— Ага, — кивнул Синдбад.
— И на соседа по парте, — придумал я.
— Ага, — кивнул Синдбад.
Мы стояли в кругу, а Кевин за кругом. Мы жгли костёр и смотрели в огонь — так полагалось. Ещё не стемнело. Мы держались за руки — так полагалось, и придвигались всё ближе к огню. Глаза жгло, а тереть их запрещали правила. Мы играли в эту игру уже третий раз.
Наступила моя очередь.
— Гвоздодёр.
— Гвоздодёр! — без единой улыбки повторили мы хором.
— Гвоздодёр, гвоздодёр, гвоздодёр!
Пели мы только второй раз. Раньше делали лучше, правильнее: только выкрики и индейские кличи. Так правильнее, особенно пока светло.
Слева стоял Лайам. Земля сочилась влагой, как болото. Кевин кочергой хлопнул Лайама по плечу. Его очередь.
— Шпалера.
— Шпалера!
— Шпалера, шпалера, шпалера!
Мы ушли на пустырь за магазинами, подальше от дороги. Некоторые места, где мы раньше играли, теперь были для нас потеряны. Территория наша сужалась. В рассказе, который читал вслух Хенно, глупейшем детективчике, речь шла о женщине, которая прищипывала розы на шпалерах. Потом её убили и долго, нудно искали убийцу. Мы плевать хотели, кто убийца, но слушали внимательно: вдруг Хенно опять скажет «прищипывала». Не сказал. Зато через предложение звучало слово «шпалера». Что такое шпалера, не знал никто.
— Бука.
— Бука!
— Бука, бука, бука!
— Невеглас.
— Невеглас!
— Невеглас, невеглас, невеглас!
Никогда не догадаешься, какое слово следующее. Я старался: услышу на уроке незнакомое или просто звучное словечко — и внимательно смотрю, какое у кого выражение лица. Так же поступали и Лайам с Эйданом, и Кевин, и Иэн Макэвой — коллекционировали слова.
Опять моя очередь.
— Нестандарт.
— Нестандарт!
— Нестандарт, нестандарт, нестандарт!
Песнопение окончено. Глаза мои, глаза — ну, сущая пытка. Ветер-то дул в мою сторону, и весь дым, весь пепел сдувало мне в рожу. Зато потом приятно вытряхивать сухой пепел и золу из волос.
Началась настоящая церемония: наречение имён. Кевин ходил взад-вперёд за нашими спинами. Оглядываться запрещалось. Мы определяли, где находится жрец, только по голосу и шелесту шагов в траве, если Кевин заступал за вытоптанный круг. И вдруг — свист сзади. Кочерга! Ужасно и прекрасно — не знать. Просто блеск это волнение, это ожидание, особенно когда после вспоминаешь.
— Я Зентога, — начал Кевин.
Свист.
Прямо за спиной.
— Я Зентога, верховный служитель великого бога Киунаса[18].
Свист.
Откуда-то сбоку. Я зажмурился. И первым оказаться хотелось, и слава Богу, что Кевин отошёл.
— Киунас Великий дарует людям имена! Слово плотию стало!
Удар, крик. Эйдан получил кочергой поперёк спины.
— Говешка! — выкрикнул Эйдан.
— Отныне и вовеки имя тебе Говешка, — возвестил Кевин, — Так велит Киунас всесильный.
— Говешка! — прокричали мы.
Мы находились на безопасном расстоянии от магазинов и могли орать что угодно.
— Слово плотию стало!
Свист. Удар.
Совсем рядом.
Иэн Макэвой.
— Титька!
Совсем рядом; боль Иэна Макэвоя прошла сквозь меня.
— Отныне и вовеки имя тебе Титька. Так велит Киунас всесильный.
— Титька!
Слово непременно должно быть скверное, ругательное — этот главное правило. Если оно не совсем скверное, получаешь новый удар кочергой.
— Слово плотию стало!
— Ещё одна титька!
Близился мой черёд. Я уткнулся в колени лицом. Руки вспотели, выскальзывали из рук Иэна Макэвоя и Лайама. Кое-кто плакал. Не один «кое-кто», а несколько.
За спиной раздался голос:
— Слово плотию стало!
— А-а-а!
Это Лайам. Свист. Ещё удар. На сей раз какой-то нечестный, с подвохом.
— Это пока не слово, — выдохнул Лайам сквозь зубы.
Кевин ударил Лайама, потому что он не сказал ругательство. От боли и ярости голос Лайама дрожал.
— Верные Киунасу не ведают боли, — бросил Кевин.
Лайам заревел.
— Верные Киунасу не ревут!
И Кевин опять замахнулся. Я прямо чувствовал, как взлетела кочерга. Но рука Лайама выскользнула из моей. Он с трудом вставал.
— Тьфу на твоего Киунаса, идиотская игра.
Кевин всё-таки на него замахнулся, но Лайам стоял слишком близко. Я не вмешивался; никто не вмешивался. Украдкой я потёр щёки: кожа натянулась и горела.
— Да падёт проклятие на твой род, — с этими словами Кевин все-таки выпустил Лайама.
Смиффи О'Рурк вышел из игры неделю назад, получив кочергой по хребтине пять раз, поскольку «распроклятый» звучало не очень гнусно, а ничего ругательнее Смиффи О'Рурк не знал. Миссис О'Рурк даже в полицию ходила — если верить Кевину — но ничего не добилась, а спина Смиффи по-прежнему переливалась всеми цветами радуги. Мы очень веселились, глядя, как Смиффи бежит, точно пригибаясь под обстрелом: выпрямиться он не мог. Сейчас-то никто не веселился. Лайам брёл в сторону дырки, которую мы сами прорезали в новой проволочной ограде. Вечерело. Лайам шагал осторожно. Слышно было, как он всхлипывает, и хотелось уйти с ним вместе.
— Великий Киунас уничтожил твою мать! — воздел руки Кевин. Я покосился на Эйдана: в конце концов, это и его мать. Он не двинулся с места, не отвернулся от огня. Я выжидал. Эйдан не шевелился. Что ж, приму кару, выберу то же, что выбрал Эйдан. Прекрасно стоять в круге, лучше, чем уходить с неудачником Лайамом.
Я следующий. Двое других тоже не получили имён, но следующий — я. Мы снова встали в круг — ещё теснее, ведь Лайам ушёл. Если быстро пихнуть кого-нибудь, он свалится прямо в костёр. Мы подползли на задницах ещё ближе.
Сто лет Кевин бродил за нашими спинами. Уже стемнело. Я закрыл глаза и слушал ветер. Ноги почти горели. Кевин исчез; я не мог догадаться, где он. Я слушал и не слышал. Лайама не существовало нигде.
— Слово плотию стало!
Спина точно надвое развалилась. Рёбра взорвались одно за другим.
— Хуй!
— Отныне и вовеки имя тебе Хуй.
Ну, всё.
— Так велит Киунас величайший!
Дело сделано.
— Хуй!
Самое лучшее слово, но кричали его не так чтобы громко. Все струсили, заглушили крик, все, но не я. Я заплатил за него сполна. Прямо в позвонок кочерёжкой своей. Палач. Ни распрямиться, ни охнуть, ни вздохнуть. Всё, всё. Дело сделано. Я разлепил веки.
— Слово плотию стало!
Кого-то скрючило от боли. Я блаженствовал.
Хуй — самое лучшее слово. Самое опасное. Нельзя повторять даже шёпотом.
— Мандушка!
Хуй — всегда слишком громко, слишком поздно заткнуть глотку. Это слово взрывается в воздухе и медленно падает на головы. Наступает вселенское молчание, на волнах которого покачивается один лишь Хуй. Несколько секунд смерти, ожидания Хенно, который обернётся, и увидит, как на макушку тебе падает Хуй. Секунды ужаса — и он все же не обернулся. Такое слово вообще нельзя говорить. Даже выплёвываешь его из себя, а оно и не должно произноситься. Скажешь — и ждёшь, что схватят за шиворот и накажут. Вырываясь, оно звучит, как электросмех, как беззвучный вздох с хохотом пополам, — так веселиться можно только над запретным, — как нутряная щекотка, вырастающая в сверкание боли, и рот разрывается: на волю, на волю! Предсмертные судороги. А предсмертные судороги по пустякам не случаются.
— Слово плотию стало!
Удар. Ещё одно запретное слово. Я выкрикнул его во всё горло.
— Отныне и вовеки имя тебе Муде.
Последнее.
— Так велит Киунас величайший!
— Муде!
Вот и всё, можно отойти от костра; до будущей недели. Я с трудом разогнулся. Да, игра стоила свеч. Я, не Лайам, стал героем.
— В следующую пятницу Киунас Великий наречёт вам новые имена, — сказал Кевин, но его уже не слушали. Жрать охота, по пятницам рыба. Предполагалось, что мы будем зваться новыми именами всю неделю, но на самом деле уже все забыли, кто там Мандушка, а кто — Говешка. Зато моё имя каждый помнил твёрдо. Меня звали Хуй.
Следующая пятница так и не настала. От Кевиновой кочерги нас уже воротило, зады сплошь в синяках. А Кевин отказывался сам подставлять спину и получать имя, видите ли, я навечно жрец, так велит Киунас. Играли бы мы и дольше, хоть веки вечные, если б священнослужитель сам время от времени получал кочергой. Но кочерга была Кевинова, и Кевин никому её не доверял. Один я по-прежнему называл его жрецом Зентогой, но всё равно радовался, что в пятницу не схлопочу поперёк хребта. Кевин ушёл бродить в одиночку, а я прицепился к нему, делая вид, что, мол, за друга горой. Мы пошли на побережье и швыряли камнями в море.