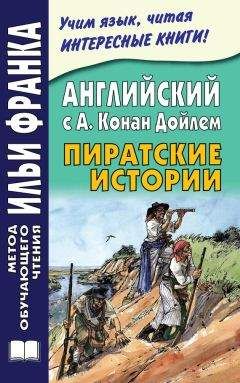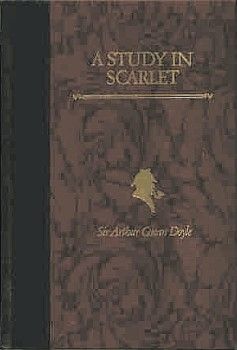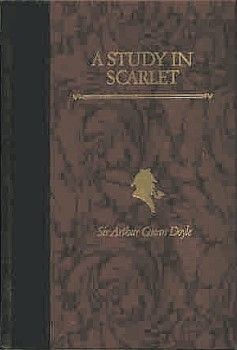Уильям Фолкнер - Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник)
– Американец, по правде говоря, не любит ничего, кроме своей машины, у него на первом месте не жена, не ребенок, не отчизна, даже не текущий счет в банке (на самом деле он вовсе не так уж привержен к своему текущему счету, как это думают иностранцы, потому что он способен истратить его чуть ли не весь целиком, сразу, на какую-нибудь совершенно бессмысленную затею), а его машина, потому что машина стала нашим национальным символом пола. И ничто нам по-настоящему не доставляет удовольствия, если это как-то не связано с ней. Вместе с тем все наше прошлое, то, как нас растили и воспитывали, не позволяет нам действовать втихомолку или прибегать к обману. Поэтому мы вынуждены, например, развестись сегодня с женой, чтобы снять с нашей любовницы клеймо любовницы, затем, чтобы завтра развестись с женой и снять с любовницы… и так далее. А в результате американская женщина становится холодной и бесполой, она переносит свое либидо[138] на машину – и не только потому, что ее блеск и всякие там приборы и приспособления потакают ее тщеславию и ее неспособности ходить (из-за одежды, которую ей навязывает наша отечественная торговля через поставщиков), а потому, что машина ее не мнет, не терзает, не заставляет ее метаться, растрепанную, всю в поту. Поэтому, чтобы овладеть хоть чем-то, что еще осталось в ней, и удержать это, мужчина-американец вынужден сделать эту машину своей собственностью. И вот так и выходит, что он может жить в какой угодно наемной дыре, но у него будет не только собственная машина, но каждый год новая, во всей ее девственной неприкосновенности: он никому никогда не одолжит ее, никого и никогда не посвятит в интимную тайну невинных капризов и шалостей ее рычагов и педалей, хотя ему, собственно, и ездить-то в ней некуда, а если бы и было куда, так он не поедет – из страха, как бы не загрязнить, не поцарапать, не попортить ее. И каждое воскресенье с утра он моет ее, и чистит, и гладит, натирает до блеска, потому что, делая это, он ласкает тело женщины, которая давно уже не пускает его к себе в постель.
– Все это неправда! – сказал он.
– Мне уже шестой десяток пошел, – сказал дядя. – Пожалуй, лет пятнадцать из них я только и делал, что волочился за юбками. И я из своего опыта вынес, что очень немногим из них нужна любовь или даже физические ощущения. Просто они хотят выйти замуж.
– Все равно я этому не верю, – сказал он.
– Правильно! – сказал дядя. – И не верь, и даже когда тебе за пятьдесят перевалит, все равно продолжай не верить.
И тут, кажется, чуть ли не оба сразу они увидели Лукаса, переходившего Площадь, – сдвинутую набок шляпу и тоненький яркий лучик от сверкнувшей золотой зубочистки, и он сказал:
– Как вы думаете, где она, по-вашему, была у него все это время? Я ведь ее ни разу не видел. А конечно, она была при нем в тот день, в субботу, когда он не только нарядился в свой черный костюм, но даже и пистолет нацепил. Не мог же он тогда пойти без своей зубочистки?
– А я разве тебе не говорил? – сказал дядя. – Когда Хэмптон приехал к Скипуорту и вошел в комнату, где Скипуорт приковал Лукаса к ножке кровати, первое, что сделал Лукас, – это протянул Хэмптону свою зубочистку и сказал ему, чтобы он подержал ее у себя, пока он не спросит.
– О-о! – сказал он. – Вон он идет сюда.
– Да, – сказал дядя, – позлорадствовать. Да нет, он джентльмен, – тут же поправился он. – Он не припомнит мне, не скажет в лицо, что я ошибся, просто спросит, сколько он мне должен как адвокату.
И потом, когда он уселся на своем стуле около охладителя, а дядя опять у себя за столом, они услышали протяжный гулкий грохот и скрип ступенек и затем твердые, но совсем не торопливые шаги Лукаса, и Лукас вошел – на этот раз без галстука и даже без воротничка, но с запонкой, в допотопном белом жилете, не столько запачканном, сколько запятнанном под черным сюртуком и выпущенной петлей потертой золотой цепочкой, – то же лицо, которое он в первый раз увидел четыре года тому назад в то утро, когда он только что вылез из едва затянувшегося льдом рукава речки и вода текла с него ручьями, – ничуть не изменившееся, как будто с ним ничего и не произошло за это время, даже годы не прибавились, – и, пряча зубочистку в верхний карман жилета, он сказал, входя:
– Джентльмены! – А потом к нему: – Молодой человек! – Вежливый, неподатливый, более чем обходительный, ну просто почти приветливый, и, снимая свою сдвинутую набок шляпу: – Ну как, больше не падал в ручей, а?
– Нет, все в порядке. Жду, когда там у вас побольше льда нарастет.
– Всегда вам рад, добро пожаловать, можете и не ждать, пока замерзнет.
– Садись, Лукас, – сказал дядя, но тот уже усаживался, выбрав тот самый жесткий стул около двери, на который никто никогда не садился, кроме мисс Хэбершем, и, сев, даже слегка подбоченился, словно он позировал перед фотоаппаратом, и, положив свою шляпу тульей вверх на согнутую руку и по-прежнему не сводя глаз с них обоих, повторил:
– Джентльмены!
– Ты, конечно, пришел ко мне не затем, чтобы я сказал тебе, что делать, ну а я тебе все-таки скажу, – сказал дядя.
Лукас быстро мигнул. Поглядел на дядю.
– Да, не сказал бы, что я за этим пришел. – Потом добавил живо: – Но я всегда готов послушать добрый совет.
– Поди навести мисс Хэбершем, – сказал дядя.
Лукас уставился на дядю. Мигнул на этот раз дважды.
– Не очень-то я охоч в гости ходить, – сказал он.
– Я думаю, ты не очень охоч и до виселицы, – сказал дядя. – Но ведь нет надобности тебе говорить, как близко ты от нее был.
– Нет, – сказал Лукас. – Чего уж там говорить. А что вы хотите, чтобы я ей сказал?
– Ты не можешь, – сказал дядя. – Ты не умеешь сказать «спасибо». Но я об этом позаботился: отнеси ей цветы.
– Цветы? – сказал Лукас. – Да я вроде как и не видал их с тех пор, как померла моя Молли.
– Это мы тоже уладим, – сказал дядя, – я позвоню домой, и моя сестра приготовит тебе букет цветов, Чик отвезет тебя на машине, ты возьмешь цветы, а потом он отвезет тебя до ворот дома мисс Хэбершем.
– Ну, уж об этом можно и не беспокоиться, – сказал Лукас. – Раз цветы будут у меня, я и прогуляться могу.
– Да ведь ты и цветы можешь бросить, – сказал дядя. – Но если ты будешь в машине с Чиком, я буду уверен, что ты не сделаешь ни того, ни другого.
– Что ж! – сказал Лукас. – Если на вас ничем другим не угодишь… [И когда он, уже вернувшись обратно в город, наконец-то едва-едва нашел место за три квартала поставить машину и, поднявшись по лестнице, вошел в контору, дядя, опять чиркая спичкой и поднося ее к трубке, заговорил через нее дымом: – Ты и Букер Т. Вашингтон[139], нет, не так, ты, и мисс Хэбершем, и Алек Сэндер, и шериф Хэмптон, и Букер Т. Вашингтон – потому что он-то сделал только то, что все от него и ожидали, так что никакой, собственно, причины считать себя вынужденным это делать у него не было, тогда как вы все сделали не только то, чего от вас никто не ожидал, но весь Джефферсон, и весь Йокнапатофский округ, узнай они об этом своевременно, все разом с единодушной – в кои-то веки – решимостью бросились бы помешать вам это сделать, и даже год спустя кое-кто (при случае, если придется кстати) нет-нет да и помянет об этом с неодобрением и даже с отвращением, не потому, что вы вурдалаки и забыли о том, что вы белые, – все это по отдельности они, может быть, вам и спустили бы, – но потому, что вы осквернили могилу белого, чтобы спасти негра, а следовательно, у вас были причины считать себя вынужденными это сделать. Так вот, не останавливайся на этом. – И он сказал:
– Но вы же не думаете, просто потому что сегодня опять суббота, что кто-нибудь залег там в кустах жасмина у мисс Хэбершем и ждет, когда Лукас ступит па крыльцо. К тому же у Лукаса сегодня нет с собой его пистолета, и, кроме того, Кроуфорд Гаури… – И дядя сказал:
– А почему бы и нет; то, что сейчас лежит в могиле у Шотландской часовни, было Кроуфордом Гаури всего на одну-две секунды в прошлую субботу, а Лукас Бичем со своим цветом кожи впутается еще в десять тысяч историй, которых более осмотрительный человек избежал бы и от которых человек с более светлой кожей десять тысяч раз убежал бы, после того как то, что в прошлую субботу было на какую-то секунду Лукасом Бичемом, тоже теперь лежит в земле возле своей Шотландской часовни, потому что этот наш Йокнапатофский округ, все те, кто в ту воскресную ночь остановили бы тебя, и Алека Сэндера, и мисс Хэбершем, – они, в сущности, правы, им нет дела до жизни Лукаса, ни как он там живет, ест, спит, дышит, так же как им нет дела до тебя и до меня, они дорожат только своим незыблемым правом жить в спокойствии и безопасности. И по правде сказать, жить было бы куда удобнее, если бы на земле было бы поменьше Бичемов, Стивенсов и Мэллисонов всех цветов и оттенков и если бы существовал какой-то безболезненный способ уничтожать бесследно не их громоздкие, занимающие место останки – это-то можно сделать, – но то, чего нельзя уничтожить, – память, бессмертную, неизгладимую память, сознание, что человек был когда-то жив, то, что остается навеки через десятки тысяч лет в десятках тысяч воспоминаний о несправедливости, о страданиях; нас слишком много не потому, что мы занимаем много места, а потому, что мы готовы перепродать, уступить нашу свободу за любую ничтожную цену ради того, что мы считаем своим собственным, а это есть не что иное, как узаконенное конституцией право добиваться каждому счастья и благосостояния на свой лад, не заботясь, кто от этого страдает или кому чего это стоит, и даже ценой распятия кого-то, чья форма носа или цвет кожи нам не нравятся; но даже и с этим можно бороться, если те немногие другие, которые ценят человеческую жизнь просто потому, что всякому дано право дышать независимо от того, какого цвета кожу расширяют и сокращают легкие или через какой формы нос в них поступает воздух, – готовы защищать это право любой ценой, – ведь не так уж их много и надо – в ту воскресную ночь оказалось достаточно троих, даже и одного может оказаться достаточно; и вот когда некоторое количество этих одиночек будет не только стыдиться и огорчаться, но отважится пойти на нечто большее – вот тогда Лукасу можно будет не опасаться, что ему внезапно в любую минуту может потребоваться, чтобы его спасли.