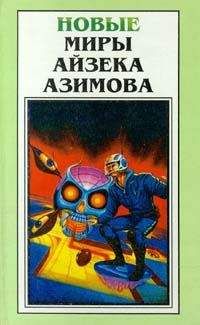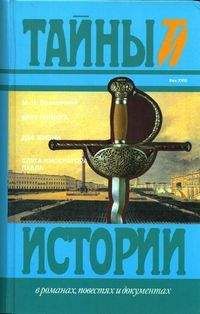Луций Сенека - Письма
Письмо LIV
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Долгий отпуск дала мне внезапно налетевшая хворь. - "Что за хворь?" - спросишь ты, и не без причины: ведь нет болезни, с которой я не был бы знаком. Но один недуг словно бы приписан ко мне; не знаю, зачем называть его по-гречески, если к нему вполне подходит слово "удушье". Начинается оно сразу, подобно буре, и очень сильно, а примерно через час прекращается. Кто же испускает дух долго? (2) Я прошел через все, что мучит тело и грозит ему опасностью, но ничего тяжелее, по-моему, нет. Почему? Всем остальным, каково бы оно ни было, мы болеем, а тут отдаем душу. Из-за этого врачи и называют такую хворь "подготовкой к смерти". Ведь однажды дух сделает то, что пытается сделать так часто. (3) Ты думаешь, я пишу тебе так весело оттого, что избегнул смерти? Радоваться окончанию приступа, словно выздоровлению, было бы глупее, чем, получив отсрочку, мнить себя выигравшим тяжбу. А я, даже задыхаясь, не переставал успокаивать себя радостными и мужественными мыслями. (4) "Что же это такое, - говорил я, - почему смерть так долго ко мне примеривается? Пусть уж сделает свое дело! Я-то давно к ней примерился". - Ты спросишь, когда. - Прежде чем родился. Смерть - это небытие; но оно же было и раньше, и я знаю, каково оно: после меня будет то же, что было до меня. Если не быть - мучительно, значит, это было мучительно и до того, как мы появились на свет, - но тогда мы никаких мук не чувствовали. (5) Скажи, разве не глупо думать, будто погашенной светильне хуже, чем до того, как ее зажгли? Нас тоже и зажигают, и гасят: в промежутке мы многое чувствуем, а до и после него - глубокая безмятежность. Если я не ошибаюсь, Луцилий, то вот в чем наше заблуждение: мы думаем, будто смерть будет впереди, а она и будет, и была. То, что было до нас, - та же смерть. Не все ли равно, что прекратиться, что не начаться? Ведь и тут и там - итог один: небытие. (6) С такими ободряющими речами (конечно, безмолвными: тут не до слов!) я непрестанно обращался к себе, потом понемногу одышка, которая уже переходила в хрип, стала реже, успокоилась и почти прекратилась. Несмотря на это, дышу я и сейчас не так, как положено природой: я чувствую, как дыханье прерывается и застревает в груди. Ну да ладно, лишь бы не вздыхать из глубины души! (7) Обещаю тебе одно: в последний час я не задрожу - ведь я к нему готов и даже не помышляю о целом дне. Воздавай хвалы и подражай тому, кому не тяжко умереть, хоть жизнь его и приятна. А велика ли доблесть уйти, когда тебя выбрасывают за дверь? Впрочем, и тут есть доблесть: если ты будешь выброшен так, будто сам уходишь. Поэтому мудрого выбросить за дверь невозможно: ведь выбросить значит, прогнать оттуда, откуда уходишь против воли. А мудрый ничего не делает против воли и уходит из-под власти необходимости,. добровольно исполняя то, к чему она принуждает. Будь здоров.
Письмо LV
Сенека приветствует Луцилия!
(1).Я как раз вернулся с прогулки в носилках; впрочем, если бы я столько же прошел пешком, усталость была бы не больше. Когда тебя подолгу носят, это тоже труд и, видно, еще более тяжелый из-за своей противоестественности. Природа дала нам ноги, чтобы мы сами ходили, и глаза, чтобы мы сами глядели. Изнеженность обрекла нас на бессилие, мы не можем делать то, чего долго не хотели делать. (2) Однако мне необходимо было встряхнуться, для того ли, чтобы растрясти застоявшуюся в горле желчь, или для того, чтобы по какой-то причине стеснившийся в груди воздух разредился от качания носилок. И я чувствовал, что оно мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манила меня излучина берега между усадьбой Сервилия Ватии и Кумами, узкого, словно дорога, и сжатого между морем и озером1. После недавней бури песок был плотный, потому что, как ты знаешь, частый и сильный прибой разравнивает его, а долгое затишье разрыхляет, так как уходит вся связывающая песчинки влага. (3) По привычке я стал озираться вокруг, не найдется ли чего такого, что пошло бы мне на пользу, и взгляд мой упал на усадьбу, когда-то принадлежавшую Ватии. В ней он, богатый, как бывший претор, и ничем, кроме безделья, не знаменитый, состарился, почитаемый за одно это счастливцем. Ибо всякий раз, когда кого-нибудь топила дружба с Азинием Галлом2, либо вражда, а потом и приязнь Сеяна3 (и задевать его, и любить было одинаково опасно), люди восклицали: "О Ватия, ты один умеешь жить!" А он умел не жить, а прятаться. (4) Ведь жить свободным от дел и жить в праздности - не одно и то же. При жизни Ватии я не мог пройти мимо этой усадьбы и не сказать: "Здесь покоится Ватия". Но философия, мой Луцилий, внушает такое почтение и священный трепет, что даже сходство с нею, пусть и ложное, привлекает людей. Человека, свободного от дел, толпа считает добровольно уединившимся, безмятежным, независимым и живущим для себя, между тем как все эти блага никому, кроме мудреца, не доступны. (5) Этот, живущий в тревоге, неужто умеет жить для себя? И, самое главное, умеет ли он вообще жить? Кто бежит от дел и людей, неудачливый в своих желаниях и этим изгнанный прочь, кто не может видеть других более удачливыми, кто прячется из трусости, словно робкое и ленивое животное, тот живет не ради себя, а куда позорнее! - ради чрева, сна и похоти. Кто живет ни для кого, тот не живет и ради себя. Но постоянство и упорство в своем намерении - вещи такие замечательные, что и упорная лень внушает уважение. (6) О самой усадьбе не могу ничего написать тебе наверняка: я знаю только ее лицевую сторону и то, что видно проходящим мимо. Там есть две пещеры, просторнее любого атрия, вырытые вручную ценой огромных трудов; в одну солнце не заглядывает, в другой оно до самого заката. Платановую рощу делит на манер Еврипа4 ручей, впадающий и в море, и в Ахерусийское озеро. Рыбы, что кормится в ручье, хватало бы вдосталь и для ежедневного лова, однако ее не трогают, если можно выйти в море; когда же буря дает рыбакам отпуск, то нужно только протянуть руку за готовым. (7) Самое большое преимущество усадьбы в том, что от Бай она отделена стеной и, наслаждаясь всем, что есть там хорошего, не знает тамошних неудобств. Эти лучшие ее свойства я знаю сам и полагаю, что она годится на все времена года. Ведь ее овевает Фавоний 5, который она даже отнимает у Бай, принимая его на себя. Видно, Ватия был неглуп, если выбрал это место, чтобы жить в безделье и старческой лени. (8) Но место не так уже способствует спокойствию; наша душа делает для себя каждую вещь такой или иной. Я видел опечаленными обитателей веселых и приятных усадеб, видел живущих в уединении, которые не отличались от самых занятых. Поэтому не думай, будто тебе живется не очень уютно оттого, что ты далеко от Кампании. Да и далеко ли? Достигни этих мест мыслями! (9) Можно общаться и с отсутствующими друзьями так часто и так долго, как тебе самому угодно. В разлуке мы еще больше наслаждаемся этим общением, прекрасней которого нет ничего. Жизнь рядом делает нас избалованными, и хотя мы порой вместе сидим, вместе гуляем и беседуем, но, разойдясь порознь, перестаем думать о тех, с кем только что виделись. (10) Потому и должны мы переносить разлуку спокойно, что каждый подолгу разлучен даже с теми, кто близко. Во-первых, считай ночи, проведенные врозь, затем - дела, у каждого свои, потом уединенные занятия, отлучки в загородные, - и ты увидишь, что пребывание на чужбине отнимает у нас не так много. (11) Друг должен быть у нас в душе, а душа всегда с нами: она может хоть каждый день видеть, кого захочет. Так что занимайся со мною, обедай со мною, гуляй со мною. Мы жили бы очень тесно, если бы хоть что-нибудь было недоступно нашим мыслям. Я вижу тебя, Луцилий, я даже слышу тебя, я так близко к тебе, что сомневаюсь, не слать ли тебе вместо писем записки. Будь здоров.
Письмо LVI
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина! Сейчас вокруг меня со всех сторон - многоголосый крик: ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки, когда они трудятся или делают вид, будто трудятся, я слышу их стоны; когда они задержат дыханье, выдохи их пронзительны, как свист; попадется бездельник, довольный самым простым умащением, - я слышу удары ладоней по спине, и звук меняется смотря по тому, бьют ли плашмя или полой ладонью. А если появятся игроки в мяч и начнут считать броски, - тут уж все кончено. (2) Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Прибавь и тех, кто с оглушительным плеском плюхается в бассейн. А кроме тех, чей голос, по крайней мере, звучит естественно, вспомни про выщипывателя волос, который, чтобы его заметили, извлекает из гортани особенно пронзительный визг и умолкает, только когда выщипывает кому-нибудь подмышки, заставляя другого кричать за себя. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликающие товар. - (3) Ты скажешь мне: "Ты железный человек! Ты, видно, глух, если сохраняешь стойкость духа среди всех этих разноголосых нестройных криков, между тем как нашего Криспа1 довели до могилы чересчур усердные утренние приветствия". Нет, клянусь богом, я обращаю на этот гомон не больше внимания, чем на плеск ручья или шум водопада, - хоть я и слышал про какое-то племя, которое перенесло на другое место свой город только из-за того, что не могло выносить грохот нильского переката. (4) По-моему, голос мешает больше чем шум, потому что отвлекает душу, тогда как шум только наполняет слух и бьет по ушам. К числу тех, что шумят, не отвлекая меня, я отношу проезжающие мимо повозки, и плотника в моем доме, и кузнеца по соседству, и того, кто у Потной меты2, пробуя дудки и флейты, хоть и кричит, но не поет. (5) При этом звук, то и дело прерывающийся, тяготит меня больше, чем непрерывный. Но я уже так закалился, что мог бы слушать даже начальника над гребцами, когда он противным голосом отсчитывает такт. Ведь я принуждаю мой дух сосредоточиться на себе и ни на что внешнее не отвлекаться. Пусть за дверьми все шумит и гремит, - лишь бы внутри не было смятения, лишь бы не ссорились между собой вожделение и страх, не затевали распрю и не мучили друг друга расточительность и скупость. Пусть по всей округе тишина - много ли нам в ней пользы, если наши страсти бушуют?