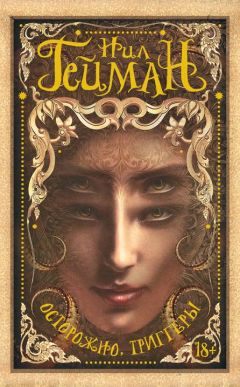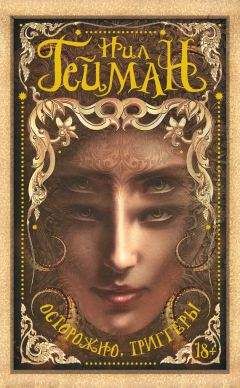Владислав Ляхницкий - Золотая пучина
— Верно Кирюха толмачит, хрестьянину неча терять, окромя цепей.
— На войну уходил, на дворе две коровенки стояли. Телушка. Два меринка да кобыла в обчественном табуне. А где они ноне? У Кузьмы, молельщика нашего. Баба по нужде задарма продала ему. Вымолил, с-сука, у бога моих коровенок.
— Ты того., бога не трожь. А узнает исправник…
— Может, донесешь?
— Я не доносчик, а дороги наши в разные стороны. Богоотступникам я не потатчик. Неладное вы замышляете.
В другое время такой разговор привел бы Арину в смятение, а сейчас она только припала к забору и смотрела, нет ли среди гостей Симеона.
— Нет. — Опустила руки. Не заметила, как шаль соскользнула на землю. Подошла к воротам. Прислушалась. Показалось, что напротив мелькнула какая-то тень. Хотела окликнуть. Сробела. Мужней бабе да крикнуть ночью мужицкое имя!
Так и вернулась в избу. Лампу зажигать не хотелось, но все же зажгла: пусть Сёмша знает, она его ждёт.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Каждое утро, едва начинает светать, Устин будит Ксюшу с Михеем и посылает их откачивать шурф: за ночь вода заливает его до краев.
— Как будет каша готова, шумни. А мы в лес пойдем крепь рубить.
«Пошто завсегда с Михеем?» — думает Ксюша, но боится спросить.
Пока воды в шурфе много — качать легче, и Михей справляется один.
«Чвак… чвак… чвак» — хлюпает в помпе поршень. Вода выплескивается в приемное корыто, журчит по нему и со звоном падает в канаву. Этот звук рвет рассветную тишину, будит чету желтобрюхих трясогузок. Они прилетают к шурфу и, тряся хвостиками, будто ещё не согрелись со сна, бегают по отвалу, щебечут о чём-то. Вроде удивляются, что здесь надо этим упорным людям?
Потом Ксюша встает рядом с Михеем. Рука об руку качают они тяжелый очуп.
«Чвак… чвак…» — хлюпает жёлтая жижа.
Совсем недавно здесь, на берегу Безымянки, недалеко от избушки стоял раскидистый кедр. Вокруг него притулились несколько пихт, а чуть поодаль — березка клонилась к ручью, купала в воде зелёные косы.
В покос под ветвями кедра Устин раскидывал табор: никакой дождь не мог промочить зеленый шатер. Здесь отбивали косы, а вечерами Ксюша разжигала костёр, и запах допревающей каши собирал к огню семью Рогачёвых.
Осенью на вершине кедра горланили суетливые чернонорые кедровки, оповещая тайгу: «Орех поспел, орех поспел». В его ветвях хлопотливая белка сложила гайно и звонко цокала зимними зорями.
Сколько помнит Ксюша, всегда стояли этот кедр, пихты, березка и, казалось, будут стоять вечно.
Но этой весной, в половодье, Безымянка взбурлила. Дрожа ветвями, упала в мутный поток березка. Со стоном попадали пихты. Только кедр удержался, но склонился к воде и засох.
Ксюша была в ту пору на Безымянке, видела, как падали в воду деревья, видела, как подхватывал их поток, тащил куда-то. Девушке было страшно тогда.
Ей и сейчас страшно. Далеко позади осталась привычная жизнь с пахотой, севом, прополкой, запахом сена и мычанием коров. Появились новые слова: шурф, тюрюк, вороток, бадья, помпа. Слова такие же незнакомые, пугающие, как и вся эта новая непонятная жизнь, похожая на взбурлившую Безымянку.
Холодно девушке. Неуютно и зябко.
Михей слышит прерывистое дыхание Ксюши. её коса скользит по его руке. Хочется заглянуть ей в глаза. Они у неё бездонные, и где-то там, глубоко-глубоко всегда светятся искорки.
Не может понять Михей, почему он робеет перед Ксюшей. Взять бы да обнять, как десятки раз обнимал других девок, а не поднимается рука.
Журчит по корыту вода. Все сильнее разгорается заря на востоке. Яркая, тревожная, ветровая заря. Ксюша поворачивается к Михею и говорит чуть слышно:
— Вчера дядя Устин загреб последнее зерно в закромах. А нового и не жди. Заросли поля и колосьев не видно. Третий шурф бьем. Ежели и этот пустой?
Слова далекие от мыслей Михея, но они делают девушку ближе, домашней. её тревога понятна Михею. Не будет золота — разорится семья. Сысой приезжал к Устину и увез последнее золото в уплату за ходок и сбрую, Михеевы деньги — за кайлы, и ещё не хватило.
— Не сумлевайтесь, Сысой Пантелеймоныч, — успокаивал Устин. — Не намою золота, лошадей продам.
Как одержимый Устин. Глаза провалились. Сохнет, как этот подмытый водой кедр.
— Будет золото. Куда оно делось, — говорит Михей,
Ксюша вздыхает:
— Лучше б я забросила тогда проклятую золотинку.
— Иван Иваныч говорит-, будет золото.
— А ты ему веришь? На словах у него все как есть правильно, а в думке, может, другое. Вот, к примеру, начнет он про разные страны сказывать, заслушаешься и про Безымянку забудешь. По морю корабли плывут. Люди говорят не по-нашему. И я будто с ними плыву. То вдруг песок округ и какие-то чёрные люди ходят, неведомых зверей добываю. Аж страшно становится. А когда он про новую жизнь начинает сказывать — про то, как люди жить будут, — завидки берут. По его получается, будто в селе ни богатых, ни бедных не станет, а хлеба такие — до колоса рукой не достать. Врет ведь, поди? Ежели, к примеру, заправду жили люди с кожей как уголь, то о них бы наши мужики непременно знали. А ведь не знает никто. И ведьм видали, и леших видали, а черных людей никто не видал.
— Я видал.
— Где?
— На войне. Откуда-то приезжали к нашему офицеру.
— Да ну-у… Чёрные?
— Как сажа. А глаза — белые.
— Неужто и остальное все правда? А за што он на каторге был? А? За хорошие дела на каторгу не пошлют.
Качается очуп. Плещет вода. Михей не отвечает.
— Знаешь, Михей, он шибко любит, когда ты на гармошке играешь. Сидит, слушает. Слова проронить никому не даст.
— А ты любишь, когда я играю?
— Люблю. Особенно эту, протяжную. Слушаю, а сама поля вижу. Желтые-желтые. Туча над ними висит, а среди хлебов берёзы стоят. И так им одним сиротливо.
— Скажи только слово — всю жизнь буду играть для тебя, — шепчет Михей.
— Не надо про это… Да ты качай. Мне одной не справиться. Очуп тяжелый, — хитрит Ксюша, а потом говорит с укоризной — Вот ты опять за своё. А мне так хорошо было с тобой. Просто. Сказывала все, што на сердце легло. Раньше я с Ванюшкой так говорила, а теперь только с тобой… Я бы тебе ещё много сёдни сказала, а теперь не могу.
— Давай сызнова о золоте говорить.
— И о золоте не могу. Только подумаю про него — словно морозом опалит. Третий шурф добиваем, его все нет. А ежели и не будет?
Солнце медленно выпивает росу. Иван Иванович с Михеем кайлят валунистую породу и кидают в деревянную бадейку. Устин с Симеоном вытаскивают её из шурфа. Вытряхивают в отвал. Ксюша с Ванюшкой качают очуп помпы.
— Иван Иваныч, ничего там не видно в шурфе-то? — в который раз спрашивает Устин.
— Нет. Из последней бадьи породу пробовал?
— Мыл.
— Нет золота?
— Нет!
Кончается день. Золота нет. Устина охватывает отчаяние. Под руку подвернулась Ксюша. Она обеими pуками поправила на голове белый платок — по всему видно собралась на село.
— Куда?
— Тетка Матрёна наказывала…
— Здесь ночевать будешь! Здесь! Завтра чуть свет на работу.
— Но тётка Матрёна…
— Перечить? Мне? — схватил с земли гибкий лозовый прут. Размахнулся.
Ой! — жгучая боль пронизала тело девушки. Ксюша выгнулась и присела, закрыв руками лицо. «Ж-ж-ж-ить», опять пропел прут.
У Ванюшки лицо скривилось, как от боли. «Лучше б меня…» Симеон угрюмо смотрел в землю. Перечить отцу нельзя!
Ксюша зажмурилась, ожидая второго удара, но услышала возле себя глухое порывистое. дыхание и открыла глаза.
Иван Иванович схватил руку Устина и пытался вырвать прут.
— Очумел? Пусти! Не суйся промежду домашними, — хрипел Устин. Тряхнув плечом, он легко отшвырнул Ивана Ивановича, размахнулся вновь и покачнулся от удара в лицо. Взревел:
— Ты на кого руку поднял, сморчок? К-каторжник. Убью! — он пригнул голову и, широко ставя ноги, медленно двинулся на Ивана Ивановича. Тот стоял немного растерянный, с опущенными руками. На щеке птицей бился, дрожал маленький мускул.
Дядя! Не надо! — рванулась вперёд Ксюша. Но Иван Иванович схватил её за плечи и удержал. Поставил рядом с собой.
— Убью… В муку изотру, — хрипел Устин.
— Изотрет. Ей-ей, изотрет, — возбужденно шептал Симеон.
И тут Иван Иванович не увидел, а почувствовал, что рядом с ним и Ксюшей встал Михей.
— Ваньша! Сёмша! Ко мне! — крикнул Устин.
Но Симеон. куда-то исчез, а Ванюшка просил:
— Тятька, не надо…
Плечом к плечу стояли Михей и Иван Иванович, а рядом с ними перепуганная Ксюша. Стояли не отступая. Устин ещё ниже пригнул голову и прохрипел:
— Отдайте девку. Лучше добром отдайте.
— Ударь меня раз, и будем квиты, — Иван Иванович шатнул навстречу, — но Ксюшу не тронь. Не то…
— Да ты грозить? Вон с моего прииска. Вон! И Михей вон! И Ксюха — вон! Чтоб к утру вашим духом не пахло.