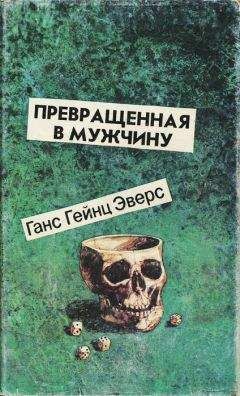Джордж Оруэлл - Да здравствует фикус!
Из-за угла блеснул яркий свет, послышался гул оживленной толпы: на Лутон-роуд два вечера в неделю открывался огромный уличный базар. Гордон пошел через торговые ряды, его частенько сюда влекло. Лотки, киоски так загромоздили тротуар, что приходилось с трудом пробираться узкими проходами, шагая по месиву капустных листьев. В резком и грубом свете электрических гирлянд красовался товар: багровые куски мяса, оранжевые груды апельсинов, холмы белых или зеленых кочанов брокколи, тушки одеревеневших стеклянноглазых кроликов, связки домашней птицы, браво выставлявшей ощипанные грудки. Гордон слегка взбодрился, ему нравились этот шум, эта суматоха. Кипящая суета лондонских рынков всегда вселяла некий оптимизм относительно перспектив Англии. Хотя личного горького одиночества не убавлялось. Повсюду, особенно у прилавков с дешевым нижним бельем, кружили, хохоча и отбиваясь от шуточек пристававших парней, стайки молоденьких девчонок. На Гордона они не смотрели, они вообще его не замечали, только тела их машинально сторонились, пропуская очередного прохожего. Ого! Он даже замер — три юных личика, склоненных над стопками искусственного шелка, нежно белели гроздью примулы или флокса. Пульс участился, душа дрогнула надеждой, немой просьбой. И одна глянула. Но! Мигом, дернув подбородком, отвернулась, залилась прозрачным румянцем — устрашилась его откровенно алчущих глаз. «Бегут от меня те, что прежде так жаждали меня» [12]. Он побрел дальше. Если б здесь оказалась Розмари! Он бы простил ей, что восьмой день нет письма; он все на свете простил бы ей сейчас. Она же самое дорогое для него, единственная любящая женщина, его спасение от угнетающего, унижающего одиночества.
Взгляд скользил по толпе. Внезапно сердце чуть не выскочило, Гордон поморгал, ему показалось, что он бредит. Да нет же, правда! Розмари!
Вон она, шагах в тридцати, словно по волшебству явившись на зов его души и тела. Она пока не видела его, но шла навстречу; гибкая проворная фигурка ловко пробиралась через грязь, лицо едва виднелось из-под плоской, по-мальчишески надвинутой на глаза черной шляпки. Поспешив к ней, он крикнул:
— Розмари! Эй, Розмари!
Из ларька с любопытством высунулся парень в синем фартуке. Но она не услышала в рыночном гаме.
— Розмари! Розмари!
Теперь, подойдя совсем близко, она остановилась и подняла глаза:
— Гордон! Ты здесь откуда?
— А ты?
— Вот иду с тобой повидаться.
— Но как же ты узнала, что я тут?
— Просто я всегда от метро прохожу к тебе этой дорогой.
Розмари иногда приезжала на Виллоубед-роуд. Ждала у подъезда, пока миссис Визбич сходит кисло сообщить мистеру Комстоку: «Вас желает видеть молодая особа», Гордон спустится, и они пойдут пройтись по улицам. Дожидаться внутри, хотя бы в прихожей, строго воспрещалось. В устах миссис Визбич «молодая особа» звучало тоном сообщения о чумной крысе. Взяв Розмари за плечо, Гордон слегка притянул ее к себе:
— Боже, какое счастье снова тебя увидеть! Было так гнусно без тебя. Почему ты не появлялась?
Она стряхнула его руку и отступила, метнув из-под шляпки нарочито сердитый взгляд:
— Не прикасайся даже! Я ужасно зла, почти решила больше никогда не видеться после этого твоего свинского послания.
— Какого?
— Известно какого.
— Да нет, я не хотел. Ладно, пойдем отсюда куда-нибудь, где хоть поговорить можно. Пошли!
Он взял ее за руку, но она вырвалась, хотя пошла рядом. Шаги ее были короче и быстрее; казалось, сбоку прилепился шустрый зверек вроде бельчонка. В действительности Розмари ростом была всего чуть-чуть пониже Гордона и лишь на полгода моложе. Никому, однако, она не виделась старой девой под тридцать, какой фактически являлась. Живая, энергичная, с густыми черными волосами и очень яркими бровями на треугольном личике, своим овалом напоминавшем портреты шестнадцатого века. Когда она впервые снимала при вас шляпку, поражало несколько резко сверкавших в черной шевелюре белых волосков. И это было характерно для нее — не озаботиться убрать вестников седины. Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных. Хотя, если всмотреться, на ее лице уже довольно явственно проступали признаки возраста.
Рядом с Розмари Гордон зашагал смелее. Подругу его люди замечали, да и сам он вдруг перестал быть невидимкой для женщин. Розмари всегда выглядела очень мило. Загадка, как ей удавалось изящно одеваться на свои четыре фунта в неделю. Гордону особенно нравилась входившая тогда в моду плоская широкополая шляпка, некое задорно-вольное подобие пасторских головных уборов. И дерзкое кокетство этой шляпки как-то весьма гармонично сочеталось с изгибом ее спины.
— Обожаю твою шляпку, — сказал он.
Розмари фыркнула, в уголках губ мелькнул отблеск улыбки.
— Приятно слышать, — ответила она, легонько прихлопнув твердый фетровый край над глазами.
Обида еще была на ее лице, и Розмари старалась идти подчеркнуто самостоятельно. Наконец, когда они выбрались из скопища ларьков, она, остановившись, строго спросила:
— Что ты вообще хотел сказать этим письмом?
— Я?
— Да, вдруг получаю: «Ты разбила мне сердце».
— Так оно и есть.
— Разве? А следовало бы!
— Может, и следовало.
Ответ прозвучал полушутливо, однако заставил Розмари пристальнее посмотреть на него — на его бледное истощенное лицо, нестриженые волосы, обычный небрежно-неопрятный вид. Она сразу смягчилась, хотя брови по-прежнему хмурила. Вздохнув (Господи! ну какой несчастный, запущенный!), прильнула к нему, Гордон взял ее за плечи, и она крепко-крепко обняла его, полная нежности и щемящей досады.
— Гордон, ты самое презренное животное!
— Самое?
— Отчего не привести себя в порядок? Пугало огородное. Что за лохмотья на тебе?
— Соответствуют статусу. Знаешь ли, трудновато расфрантиться на два фунта в неделю.
— И обязательно напяливать какой-то пыльный мешок? И пуговица непременно должна болтаться на последней нитке?
Повертев в пальцах висевшую пиджачную пуговицу, она вдруг с чисто женским чутьем заглянула под вылинявший галстук.
— Так я и знала! На сорочке вообще нет пуговиц. Гордон, ты чудище!
— Меня, тебе известно, подобная чепуха не трогает. Дух мой парит над суетой пуговиц.
— Ну что ж ты не отдал свою сорочку, чтобы я, суетная, их пришила? И разумеется, опять небритый. Просто свинство! Можно по крайней мере бриться по утрам?
— Я не могу себе позволить ежедневное бритье, — с надменным вызовом заявил Гордон.
— А это еще что? Бритье, по-моему, стоит не слишком дорого.
— Дорого! Все на свете стоит дорого. Опрятность, благопристойность, бодрость, самоуважение — это деньги, деньги, деньги! Сколько нужно объяснять?
На вид довольно хрупкая, она вновь с неожиданной силой сжала его, глядя как мать на обозленного малыша.
— Идиотка! — покачала она головой.
— Почему?
— Потому что люблю тебя.
— Правда, любишь?
— Ну да, жутко, без памяти обожаю. По причине явного слабоумия, конечно.
— Тогда пошли, найдем уголок потемнее. Мне хочется поцеловать тебя.
— О, представляю! Целоваться с небритым парнем.
— А что? Острота ощущений.
— Острота, милый, притупилась после двух лет общения с тобой.
— Ладно, пойдем.
Они нашли почти неосвещенный проулок среди глухих стен. Все их любовные свидания проходили в местах подобного уединения, исключительно на свежем воздухе. Гордон развернул ее спиной к мокрым выщербленным кирпичам, и она, доверчиво подняв лицо, обняла его с детской нетерпеливой пылкостью. Однако прижатые друг к другу тела разделял некий оборонный щит. И поцелуй ее был лишь ответным, ребячески невинным. Очень редко удавалось пробудить в ней первые волны страсти; причем она, казалось, потом напрочь об этом забывала, так что каждый раз его натиск начинался словно заново. Что-то в ее красиво скроенном теле и стремилось к физической близости, и всячески сопротивлялось. Боязнь разрушить продленную для себя бодрую юность, где еще нет секса.
Оторвавшись от ее губ, Гордон проговорил:
— Ты меня любишь?
— Да, мой дурачок. Зачем ты всегда спрашиваешь?
— Так приятно, когда ты это говоришь. Без твоих слов, я как-то теряю веру в твое чувство.
— Почему же?
— Ну, ты ведь можешь передумать. Я, надо признать, отнюдь не идеал для девушки. Тридцать вот-вот и совсем рухлядь.
— Хватит вздор городить! Будто тебе лет сто! Прекрасно знаешь, что мы ровесники.
— Но я-то весь зашмыганный, потрепанный…
Она потерлась щекой о его суточную щетину. Животы их соприкасались, он подумал, что вот уже два года безумно и бесплодно хочет ее. Ткнувшись губами в ее ухо, Гордон прошептал:
— Ты вообще отдаваться собираешься?