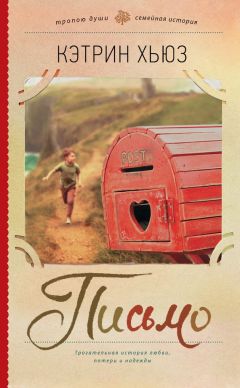Франсуа Мориак - Фарисейка
- У тебя опять температура поднимется, - сказал кюре.
Как он исстрадался, бедный мальчуган! "Он ополчился против меня только потому, что я под рукой и ему некого больше кусать..." Аббат погрузился в размышления, он поставил локти на колени и слегка отвернулся, так чтобы лицо оставалось в тени, потому что он знал, Жан, зарывшись в подушки, пытается разглядеть, достиг ли нанесенный им удар цели, но, даже если бы свет лампы падал на кюре, больной все равно ничего не смог бы прочесть в этих лишенных всякого выражения чертах. И вдруг Жану стало стыдно своих слов.
- Я это не про вас сказал, - опустив голову, пробормотал он.
Аббат Калю пожал плечами.
- Я понимаю, тебе просто требовалась разрядка... но скоро ты уже сможешь принимать гостей.
- У меня нет знакомых.
- А Пианы?
- Раз они не пришли сюда, раз не написали...
- Они каждый день о тебе справляются.
- Да, но все-таки не пришли... - твердил свое Жан и отвернулся к стене.
И правда, один из наших фермеров, живший в Балюзаке и доставлявший нам по утрам молоко, одновременно сообщал нам новости о Жане. Однако кюре тоже дивился, почему мы сами не подаем признаков жизни. Он отлично понимал, что Мирбель огорчен нашим кажущимся равнодушием, однако не мог измерить всю глубину его обиды. Поэтому-то балюзакский священник, убежденный, что все это штучки "мамаши Брижит", решил, как только больному станет полегче, съездить в Ларжюзон, хотя бы просто для очистки совести.
9
Почта в Ларжюзон прибывала обычно во время первого завтрака, когда наша семья была вся в сборе. Мачеха посещала раннюю мессу или спускалась прямо из своей спальни и, как правило, выходила в столовую уже тщательно одетая и застегнутая. В то утро, когда я вслух прочел письмо от господина Калю, где он сообщал о внезапной болезни Мирбеля, она сидела с жестким, хмурым выражением лица, что предвещало дурной день; в одиннадцать часов она должна была давать урок катехизиса детям, идущим к первому причастию, которые, по ее словам, сплошь были кретины, ровно ничего не понимали из того, что им рассказывают, сидели с непроницаемо-тупыми физиономиями и развлекались только тем, что щипали друг дружку за наиболее мясистые части тела. Да к тому же еще грязнули, непременно наследят на паркете, и попахивает от них не слишком приятно. И не надейтесь, что они вам хоть вот столечко благодарны, как бы не так! Бейся не бейся, делай им добро, а их же родители при первом подходящем случае ограбят ваш дом да еще вас самих прихлопнут.
В дни, посвященные изучению катехизиса, мы все знали, что достаточно самой невинной искорки, чтобы последовал оглушительный взрыв, ибо господь бог наградил мадам Брижит огневой натурой.
- Боже мой! - крикнула Мишель, когда я дочитал письмо. - Мы немедленно должны ехать в Балюзак. А я еще не одета.
Тут раздался голос нашей мачехи:
- Ты собираешься нынче утром ехать в Балюзак?
- Конечно, а как же, бедный Жан...
- Я запрещаю тебе туда ехать.
- А почему сегодня утром нельзя?
- Ни утром, ни вечером, - отрезала мадам Брижит, побелев от злости.
Мы, ошеломленные, переглянулись. Хотя отношения мачехи и сестры были вообще-то натянутые, но до сих пор Брижит избегала открытых столкновений.
- Что это с вами? - дерзко спросила Мишель. - С чего это я буду ждать до завтра?
- И завтра ты не поедешь. Никогда больше не поедешь в Балюзак, крикнула мачеха. - И не строи удивленной физиономии, лицемерка.
Отец поднял от страницы "Нувелист" испуганное лицо.
- Но почему, Брижит, вы так горячитесь?
- Боюсь, что я слишком поздно начала горячиться. - Фраза эта была произнесена торжественным тоном.
И так как Мишель осведомилась, в чем именно ее обвиняют, мачеха заявила:
- Ни в чем я тебя не обвиняю. Я верю в зло только тогда, когда вижу его своими собственными глазами.
Отец поднялся. На нем был старый коричневый халат. Из-под расстегнутого ворота рубашки торчали пучки серой шерсти, обильно покрывавшей его грудь.
- Так или иначе, вы говорите...
Мачеха устремила на мужа ангельски-кроткий взгляд:
- Мне больно причинять вам боль. Но вы должны все знать: мне говорили, что Мишель видели у мельницы Дюбюша вместе с Мирбелем.
Мишель твердо заявила, что это правда, что иногда она встречалась там с Жаном. Но что же тут плохого?
- Не разыгрывай наивность, это тебе не к лицу. Тебя видели.
- Ну и что же, что видели? И видеть было нечего.
Отец нежно привлек Мишель к себе:
- И в самом деле, нет ничего плохого в том, что ты встречалась с маленьким Мирбелем у мельницы Дюбюша. Но хотя ты еще ребенок, ты выглядишь старше своих лет, а здешние люди - особенно женщины - настоящие ехидны.
Тут Брижит прервала его:
- Конечно, ехидны... И вам совершенно незачем защищать от меня Мишель. Я только потому и вмешиваюсь, чтобы спасти ее от сплетен; возможно, все это одна клевета, и хочу надеяться, что я вмешалась не слишком поздно. Этот Мирбель - развращенный субъект. Господи, прости меня, что я принимала его в нашем доме! Интересно, до чего он дошел?.. - добавила она вполголоса мрачно и задумчиво. - Вот в чем вопрос.
Какой же она вдруг стала кроткой! Отец схватил ее за запястье:
- Договаривайте до конца! Что там еще?
- Еще... Но прежде всего отпустите мою руку! - крикнула она. - Не забывайте, кто я такая! Вы хотите знать правду? Пожалуйста, вот вам правда!
Разгневанная мачеха обогнула стол, под прикрытием столового серебра и посуды схватилась обеими руками за спинку стула и в такой позе, опустив свои перепончатые веки, дабы полнее сосредоточиться в себе самой, изрекла наконец:
- Мишель девушка, и она любит мужчину. Вот что произошло.
Воцарилось молчание, мы не смели поднять от тарелок глаза. Мадам Брижит, внезапно отрезвев, не без тревоги наблюдала за отцом и дочерью.
Октав Пиан выпрямился. И показался мне очень высоким, таким, каким я помнил его еще при маминой жизни. Он был оскорблен в своей нежной любви к Мишель, в том чувстве, которое отцы питают к дочерям, в чувстве, сотканном из уважения и целомудрия, столь уязвимого, что они никогда не прощают тому, кто хоть раз посягнет на эту святыню. Он разом вырвался из плена бездонной тоски, и та, что стояла сейчас перед ним до ужаса живая, вытеснила память о покойной жене.
- Девочка, которой нет еще и пятнадцати? Да разве это мыслимо? И вам не стыдно?
- Мне-то чего стыдиться? Я ни в чем не обвиняю Мишель. - Мачехе удалось утишить гневные раскаты голоса. - Я только повторяю: я хочу верить, верю всей душой в ее невинность, в ее относительную невинность...
Но ведь бывают же девочки-матери и в пятнадцать, и даже в четырнадцать лет. Сразу видно, что Октав Пиан не ходит к бедным с благотворительными целями!
До сих пор еще у меня в ушах звучит голос, каким она произнесла "девочка-мать". Нельзя было вложить в эти слова более яростного отвращения. Я вполголоса спросил Мишель, что это такое - девочка-мать. Она не ответила (может, и сама не знала). Устремив взгляд на папу, она проговорила:
- Ты ведь ей не веришь?
- Конечно, не верю, дорогое дитя.
И он снова привлек Мишель к себе. Тут заговорила мачеха:
- Значит, нужно позвать тех, кто тебя обвиняет, кто, по их словам, видел тебя собственными глазами?..
И так как Мишель крикнула: "Ну, конечно, а как же иначе!" - отец добавил вдруг совершенно спокойным тоном:
- Ага, догадываюсь, это Виньоты, ну ясно, Виньоты, известное дело... Если вам достаточно сплетен этих людишек...
- А кто вам сказал, что меня это устраивает? Я повторяю вам, что никого не обвиняю. Я просто выполнила свой нелегкий долг: передала свидетельские показания. И все. А ваше дело - выяснять правду. Мои долг кончается там, где начинается ваш.
Брижит Пиан скрестила на груди руки и стояла так перед нами, беспристрастная, неуязвимая, заранее обеленная господом богом и сонмом его ангелов.
- И что же, по словам ваших Виньотов, делала Мишель?
- Спросите их об этом сами. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я оскверняла свои уста... Слушать их будет нелегко... Но если это нужно, если вы считаете мое присутствие необходимым, я почерпну силы в моей любви к вам всем и, в частности, к тебе, Мишель. Можешь смеяться сколько угодно: никогда я тебя так не любила, как в эту минуту.
С век ее скатилась слеза, другая, но мачеха не вытерла щеку, пока мы все их не улицезрели. Тогда спокойным голосом папа велел мне пойти за Виньотом.
Обычно Виньот входил, держа в руке берет; правый глаз его был закрыт на охоте кто-то засадил ему в физиономию дробинку. Зато другой с идиотским упорством глядел вам прямо в лицо. Ноги у него были кривые, борода нечесаная, во рту торчали корешки зубов. Свои деревянные башмаки он оставлял у порога и, прошмыгнув в полуоткрытую дверь, бесшумно скользил по паркету в одних носках. Стоило вам оглянуться, и он уже торчал у вас за спиной, раболепно хихикающий, воняющий потом и чесноком, хотя никто не видел и не слышал, как он входил в комнату.