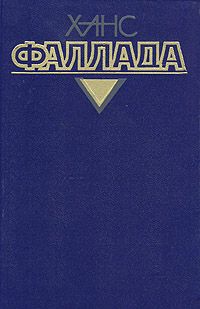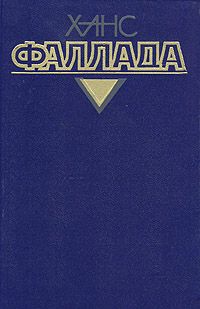Ханс Фаллада - Волк среди волков
Зофи промолчала, а Аманда бросила на ходу:
- Я вам сейчас же сварю кофе, господин Пагель.
И она ушла из конторы еще прежде, чем он успел ответить.
- Что с ней? - спросил озадаченный Пагель. - Поссорились вы, что ли?
- И не думали! - поспешно возразила Зофи. - Я просто просила ее замолвить за меня словечко перед вами, господин управляющий, но чтобы вы не знали, что это по моей просьбе. - Она пожала плечами, взглянула на дверь и торопливо добавила: - Господин управляющий, отец говорит, что вы посылаете меня копать картошку. Но, должно быть, он неправильно вас понял. Взгляните на эти руки, разве такими руками картошку копать?
И она протянула к нему руки, эти руки были чудесно наманикюрены, а ногти отполированы до блеска. Но ни маникюр, ни лак не могли скрыть, что это все же грубые руки деревенской девушки.
Пагель с большим интересом взглянул на руки, протянутые к нему почти умоляющим жестом, он даже благожелательно хлопнул по ним и сказал:
- Очень красивы! - Но затем прибавил: - Ну, Зофи, садитесь-ка вот сюда и давайте поговорим разумно.
Зофи Ковалевская послушно села против него, но ее внезапно потемневшее лицо говорило, что она не намерена соглашаться с разумными речами.
- Видите ли, Зофи, - дружелюбно сказал Пагель, - когда вы несколько лет назад отправились из Нейлоэ в город, эти хорошенькие ручки выглядели несколько иначе, не правда ли? И ведь стали же такими красивыми! Ну, а теперь они опять на время огрубеют, зато вы поможете отцу заработать немного денег. Что вы на это скажете? А когда поедете в Берлин, они опять станут блистать белизной.
Зофи Ковалевская спрятала руки, как бы считая эту тему разговора исчерпанной. Она сказала чуть не плача:
- Но, господин управляющий, ведь надо же мне ухаживать за матерью! У нее водянка, она не может ни ходить, ни стоять.
- Что ж, Зофи, если так, - серьезно ответил Пагель, - я завтра же пришлю к вашей матери доктора. Доктор нам скажет, нуждается ли ваша мать в постоянном уходе.
Он внимательно посмотрел на красивое лицо, теперь искаженное досадой, и сказал живее:
- Ах, Зофи, что вы мне очки втираете? То вы говорите о руках, то о больной матери, а отец ваш сказал мне последний раз, что вы хотите опять пойти служить. И все это неправда! Я уже не говорю о контракте, по которому одинокие взрослые дети обязаны работать, но прилично ли вам праздно слоняться, когда все выбиваются из последних сил? Прилично ли, чтобы здоровая молодая девушка сидела на шее у старого измотавшегося отца?
- Я не сижу у него на шее! - крикнула она поспешно и прибавила медленнее: - Я привезла деньги из Берлина.
- Вранье, Зофи! - сказал Пагель. - Опять надувательство. Ведь мы приехали в Нейлоэ в один и тот же день, вы уже забыли? Тогда доллар был столько-то тысяч марок, а теперь столько-то миллиардов марок - что там осталось от ваших денег!
Зофи сделала движение, чтобы заговорить.
- Ну да, теперь вы скажете, что продаете свои драгоценности или что вы в качестве экономки, или чем вы там были в Берлине, получали жалованье валютой - все вранье! Нет, Зофи, - сказал он твердо, - это дело решенное: либо вы завтра выходите на работу, либо я поселю Минну-монашку со всем ее выводком в доме вашего отца!
Лицо Зофи изменилось. На нем отразилось нетерпение, досада, гнев. Пагель внимательно смотрел в это лицо и находил его красивым. Но было в нем что-то сомнительное, казалось, что красота тонким слоем лежит сверху и каждую минуту сквозь нее может проглянуть нечто совсем другое - недоброе и некрасивое.
Но на этот раз Зофи сдержалась, она даже улыбнулась ему и умоляюще сказала:
- Ах, господин управляющий, оставьте же меня в покое. Сколько уж я вам картофелю накопаю? Сделайте мне одолжение!
И, глядя на него сбоку, она так улыбнулась, что он смутился.
- Сколько вы наработаете, Зофи, это уже другой вопрос, - сказал он деревянно и показался самому себе господином фон Штудманом. - Важен пример...
- Но я слишком слаба для такой работы, - жаловалась она. - Ведь потому-то я и пошла в город, что не гожусь для деревенской работы. Вот взгляните, господин Пагель, ведь у меня совсем нет мускулов, такие мягкие руки...
Зофи встала, она стояла вплотную перед ним, касаясь его. Она была ниже Пагеля ростом. От нее исходил аромат - она согнула руку в локте, показывая, что бицепс не вздувается, и при этом смотрела ему в глаза смиренно, лукаво, умоляюще.
- Мускулы нужны тем, кто носит мешки с картошкой, - резко сказал Пагель. - Вам нужно только копать, Зофи, а это могут делать даже дети!
- А мои колени? - жалобно возразила она. - Да я в первый же день сотру себе колени! Смотрите, господин управляющий, какие они мягкие!
На ней была очень короткая юбка, но она еще подняла ее. Она спустила чулок, мелькнула белая нога...
Тут открылась дверь.
- Опустите юбку! - резко приказал он.
Ее лицо изменилось. Да, тут-то из-под красивого лица проглянуло другое - и оно было отвратительно!
- Не смейте меня трогать! Так вот вы чего хотите! Нет, нет! - громко закричала она и уже очутилась по ту сторону двери, промчавшись мимо Аманды Бакс.
С неподвижным лицом подала Аманда Бакс кофейник.
- Вот кофе, господин Пагель!
- Ну и дрянь! - выкрикнул Пагель, все еще часто дыша. - Аманда! Меня тут соблазнить хотели! - Аманда молча смотрела на него. - Или, - задумчиво продолжал он, - ей надо было подстроить так, чтобы вам показалось, будто я ее соблазняю. Вот какой был план! - Он стоял, все еще с удивленной, полной сомнения улыбкой. - И все это для того, чтобы не копать картошку! Я вот чего не понимаю!
- Я бы оставила ее в покое, господин Пагель, - коротко сказала Аманда.
- Да, да, Аманда, я уже слышал, что вы хотите замолвить словечко за Зофи Ковалевскую. Но почему же? Значит, надо потакать лени?
- Не собираюсь я замолвить за нее словечко, господин Пагель. Мне до нее дела нет. И лучше, если бы и вам до нее дела не было, господин Пагель. Она снова метнула в него короткий быстрый взгляд. Затем сказала: - Кофе остынет, - и вышла из конторы.
Пагель посмотрел ей вслед. Многое казалось ему загадочным, но он был слишком занят, чтобы разгадывать такие загадки. Уж лучше сесть за кофе и прочитать наконец письмо Штудмана.
5. КНИБУШ СТАЛ МОЛЧАЛЬНИКОМ
Четверть часа спустя Вольфганг Пагель ехал на велосипеде по лесу. Надо было торопиться. Около пяти уже темнеет, а как только спускаются сумерки лесничего Книбуша ни за что не удержишь в лесу. Он не дает никаких объяснений, но едва лишь начинает смеркаться, лесничий Книбуш покидает рабочих и идет домой, бежит прочь из лесу.
- Чудаком он стал, - говорят одни.
- Он до смерти боится темного леса, - утверждают другие.
Книбуш и ухом не ведет - пусть люди говорят что им вздумается. Сам он почти ничего не говорит и не прислушивается к чужим разговорам. Он ничего не хочет узнать у других, и сам ничего не рассказывает. Эта удивительная для такого старика перемена, полное излечение от слабости, которой он страдал всю жизнь, началась первого октября, когда лесничий Книбуш тихо, но воинственно отправился с толпой крестьянских парней из Нейлоэ в крепость Остаде, чтобы принять участие в большом путче и свергнуть красное правительство.
Заметив, что болтун лесничий превратился в молчальника, Пагель решил, что Книбуш замкнулся в себе и замолчал с досады на позорно провалившийся путч.
Лесничий, правда, ничего не рассказывал о всей этой военной авантюре, но его молчание лишь подкрепляло догадку Пагеля. Помимо устных рассказов все знали из газет о том, как некоторые отряды нераспущенных боевых организаций вместе с вооруженными крестьянами двинулись на казармы рейхсвера, призывая солдат примкнуть к борьбе против правительства.
Рейхсвер ответил холодным "нет".
По всей вероятности, путчисты приняли это "нет" за своего рода маневр, за намерение "соблюсти приличия" и после коротких колебаний, но все еще нерешительно, предприняли нечто вроде атаки - тоже приличия ради.
Раздалось с десяток выстрелов, а может быть и два десятка, вся масса путчистов беспорядочно отхлынула назад и затем разбежалась - так, замешательством, бегством, десятком арестов и, к сожалению, двумя-тремя смертями кончилось дело, которому многие уважаемые люди, а также и авантюристы, долгие месяцы самоотверженно отдавали силы, мысли, мужество. Но то было знамение времени: в ту пору все разваливалось, все разлагалось уже в зародыше, самые добрые побуждения оставались бессильными, самоотвержение казалось смешным: каждый за себя, и все против одного.
(Та куртка, которую некий лейтенант одолжил у некоего трактирщика и которую он в припадке мнимой добросовестности тотчас же снова вернул по принадлежности, чтобы не загрязнить, та куртка первого октября была испачкана землей и кровью... Напрасно отец старался сделать из маленького кабачка приличный трактир. Но если бы лейтенант не возвратил новой куртки, разве сын трактирщика не участвовал бы в путче?)