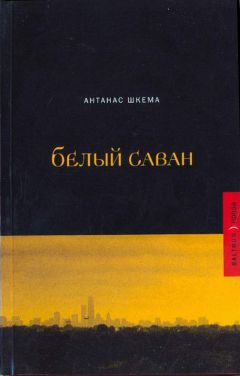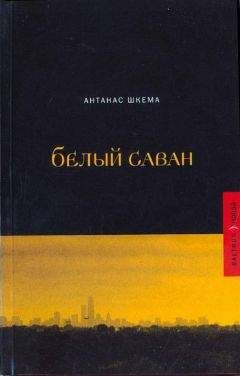Антанас Шкема - Белый саван
Но… рядом застыло ожидание. И я вдруг увидел комнату, в которой играл. Разложенные полукругом кусочки штукатурки. Зеленую картину на стене; ее отцу подарили его ученики. Они перерисовали открытку, художник плохо стер карандашный контур вокруг заходящего солнца, старательно проведенный карандашом № 1.
Я видел ножки стола — под одну из них была подсунута щепка. Видел дыру в диване и вылезающие опилки. Видел свои грязные ногти. Я ковырял в носу. И мне хотелось и смеяться, и плакать. Чувствовал это бесконечное ожидание родителей, которые еще не скоро вернутся.
И тогда я решался на борьбу. Надо прогнать прочь это ожидание. Напугать его. Уничтожить. Рассмешить. Я распахивал окно, слушал крики чибисов и набирал полную грудь угрожающей прохлады.
Я был индейцем. Смелым и беспощадным. Мои руки цепко держали окровавленные скальпы врагов. Ожидание должно было ускользнуть в открытое окно.
Я был рыцарем. Протыкал обоюдоострым мечом потолок, разбивал вдребезги электрическую лампочку, рассекал диван. Я должен был изрубить ожидание в куски.
Я был каннибалом. С шипением кипела вода в огромных котлах, в них варились белокожие. Комната гудела от огня и дыма. Ожидание должно было сгореть или задохнуться.
Я был клоуном в цирке. Кувыркался через голову, ласточкой сигал на пол. Заливался дурацким смехом. Ожидание надо было развеселить.
И наконец, я уставал. Снова усаживался возле разложенных по полу кусочков штукатурки. Паук и стражники из замка попрятались в щели. Золушка… да ее просто нет. Нет другого мира, иных небес. Пахучих, ласковых, убаюкивающих. Ожидание по-прежнему стояло рядом. Заботливая мачеха. Я закрывал окно. Мне не хотелось больше слушать крики чибисов, не хотелось дышать прохладой. Я опять рассматривал ножки стола, картину, опилки. Зеленую лампу, небо, затянутое тучами. В ушах звенела неуловимая мелодия. Может, именно тогда и родился тот звук, который позже превратился в слово Зоори!
Я ждал родителей с бьющимся сердцем. Потихоньку темнело. Небо и предметы обретали серый оттенок. Я уже не сопротивлялся ожиданию. Сидел на полу и ковырял в носу. Наверное, я бы зашелся в крике, узнай я о том, что ожидания больше нет. Звуки, долетавшие из городка, били в оконные стекла. Посвистывал маневровый паровоз, грохотали колеса телеги, гулко разносился колокольный звон. Стучало сердце у мальчишки. Оно стучало громче всех этих гаснущих вечерних звуков.
Родители появлялись неожиданно. Так бывает, когда очень ждешь. Поначалу они словно не замечали меня, озабоченные собственными пальто, обрывками фраз, принесенными с улицы, лампой, обедом. Со стуком падала на пол обувь, они меняли башмаки на тапочки, потом щипали лучину, растапливали печь, и пока все не затихало, не успокаивалось, я пребывал в одиночестве. В полном одиночестве, потому что ожидание сразу же покидало меня. Куда оно исчезало? Может, выскальзывало за дверь и ныряло в болото, уходило на дно? А может, забивалось в щель в полу? Или обвивалось вокруг нарисованного на картине солнца, которое с таким старанием изобразил ученик отца? И мне было грустно оттого, что я терял мачеху. И никак не мог осознать это противоречие. С таким нетерпением ждал родителей, а когда они приходили, огорчался. Я молчал, когда отец, заметив разбросанную повсюду штукатурку, бранил меня и обзывал неряхой, лентяем, упрекал в том, что не ценю труд своего отца, и меня не мешало бы отдать в подмастерья к сапожнику, и что Господь Бог нередко посылает человеку в наказание таких вот мальчишек.
Золушка с корзинкой в руке, а в корзинке — роза. Меня же ждут примеры по арифметике и разгневанный отец на другом конце стола. Другой мир? Все — грязно и неуютно обнажено. Зоори, где эта мелодия? Не слышу больше ее. Услышу ли когда?
Уже значительно позднее я увидел дерево. Было мне шестнадцать лет. Мы отдыхали в Паланге. Моя подруга Алдона в насмешку забросила в речку Ронже мою бамбуковую палку. И при этом добавила: дескать, я тощий, тоньше этой палки, а зубы у меня, как у ихтиозавра.
После обеда я один отправился побродить по морскому побережью. Там лежали на берегу рыбачьи лодки. Они пропахли смолой и рыбой. Я остановился возле них.
Я видел ножки стола — под одну из них была подсунута щепка. Видел дыру в диване и вылезающие опилки. Видел свои грязные ногти. Я ковырял в носу. И мне хотелось и смеяться, и плакать. Чувствовал это бесконечное ожидание родителей, которые еще не скоро вернутся.
И тогда я решался на борьбу. Надо прогнать прочь это ожидание. Напугать его. Уничтожить. Рассмешить. Я распахивал окно, слушал крики чибисов и набирал полную грудь угрожающей прохлады.
Я был индейцем. Смелым и беспощадным. Мои руки цепко держали окровавленные скальпы врагов. Ожидание должно было ускользнуть в открытое окно.
Я был рыцарем. Протыкал обоюдоострым мечом потолок, разбивал вдребезги электрическую лампочку, рассекал диван. Я должен был изрубить ожидание в куски.
Я был каннибалом. С шипением кипела вода в огромных котлах, в них варились белокожие. Комната гудела от огня и дыма. Ожидание должно было сгореть или задохнуться.
Я был клоуном в цирке. Кувыркался через голову, ласточкой сигал на пол. Заливался дурацким смехом. Ожидание надо было развеселить.
И наконец, я уставал. Снова усаживался возле разложенных по полу кусочков штукатурки. Паук и стражники из замка попрятались в щели. Золушка… да ее просто нет. Нет другого мира, иных небес. Пахучих, ласковых, убаюкивающих. Ожидание по-прежнему стояло рядом. Заботливая мачеха. Я закрывал окно. Мне не хотелось больше слушать крики чибисов, не хотелось дышать прохладой. Я опять рассматривал ножки стола, картину, опилки. Зеленую лампу, небо, затянутое тучами. В ушах звенела неуловимая мелодия. Может, именно тогда и родился тот звук, который позже превратился в слово Зоори!
Я ждал родителей с бьющимся сердцем. Потихоньку темнело. Небо и предметы обретали серый оттенок. Я уже не сопротивлялся ожиданию. Сидел на полу и ковырял в носу. Наверное, я бы зашелся в крике, узнай я о том, что ожидания больше нет. Звуки, долетавшие из городка, били в оконные стекла. Посвистывал маневровый паровоз, грохотали колеса телеги, гулко разносился колокольный звон. Стучало сердце у мальчишки. Оно стучало громче всех этих гаснущих вечерних звуков.
Родители появлялись неожиданно. Так бывает, когда очень ждешь. Поначалу они словно не замечали меня, озабоченные собственными пальто, обрывками фраз, принесенными с улицы, лампой, обедом. Со стуком падала на пол обувь, они меняли башмаки на тапочки, потом щипали лучину, растапливали печь, и пока все не затихало, не успокаивалось, я пребывал в одиночестве. В полном одиночестве, потому что ожидание сразу же покидало меня. Куда оно исчезало? Может, выскальзывало за дверь и ныряло в болото, уходило на дно? А может, забивалось в щель в полу? Или обвивалось вокруг нарисованного на картине солнца, которое с таким старанием изобразил ученик отца? И мне было грустно оттого, что я терял мачеху. И никак не мог осознать это противоречие. С таким нетерпением ждал родителей, а когда они приходили, огорчался. Я молчал, когда отец, заметив разбросанную повсюду штукатурку, бранил меня и обзывал неряхой, лентяем, упрекал в том, что не ценю труд своего отца, и меня не мешало бы отдать в подмастерья к сапожнику, и что Господь Бог нередко посылает человеку в наказание таких вот мальчишек.
Золушка с корзинкой в руке, а в корзинке — роза. Меня же ждут примеры по арифметике и разгневанный отец на другом конце стола. Другой мир? Все — грязно и неуютно обнажено. Зоори, где эта мелодия? Не слышу больше ее. Услышу ли когда?
Уже значительно позднее я увидел дерево. Было мне шестнадцать лет. Мы отдыхали в Паланге. Моя подруга Алдона в насмешку забросила в речку Ронже мою бамбуковую палку. И при этом добавила: дескать, я тощий, тоньше этой палки, а зубы у меня, как у ихтиозавра.
После обеда я один отправился побродить по морскому побережью. Там лежали на берегу рыбачьи лодки. Они пропахли смолой и рыбой. Я остановился возле них.
Носком башмака рыхлил песок. Спокойное море плескалось совсем рядом. Мелкие волны отделяли меня от молочно-белого свечения. Мне хотелось покинуть берег и пойти по воде. Как Христос. Всего несколько шагов отделяли меня от чуда. Я понял, чудеса подкрепляются реальностью. Это так похоже на прыжок вверх. Я не мог взять высоту в метр шестьдесят. Даже когда я был в хорошей форме, метр пятьдесят семь были для меня конечным результатом, выше этой планки я прыгнуть не мог. Точно так же мне не дано было ходить по морю. Я мог или утонуть, или просто смотреть на него издалека. Тонуть было страшно.
Поэтому я стоял и смотрел на море. На горизонте скользили белые паруса. Вот она, мачта с выгоревшим брезентом, а может, поднять паруса, крепко ухватить штурвал и выплыть в открытое море? Я вдыхал в себя запах смолы и рыбы, носком башмака буравил песок.