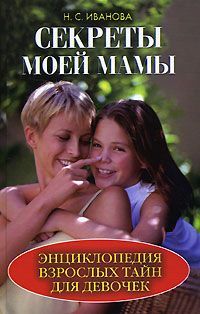Герман Гессе - Сиддхартха
Долго стоял он, погруженный в раздумье, созерцая картины прошлого, прислушиваясь к истории своей жизни. Долго стоял он, глядя вслед монахам, но вместо них видел молодого Сиддхартху, видел молодую Камалу гуляющими под высокими деревьями. Он с совершенной ясностью видел самого себя, видел, как его угощала Камала, как он получил ее первый поцелуй, как он гордо и презрительно оглянулся на свое прошлое брахмана, как гордо и жадно устремился в мирскую жизнь. Он видел вновь Камасвами, видел своих слуг, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую птичку Камалы в клетке, вновь переживал все это, дышал воздухом сансары, и затем снова чувствовал себя старым и утоленным, снова переживал тогдашнее отвращение и желание покончить с собой, и снова исцелялся священным "Ом".
Простояв долгое время у ворот сада, Сиддхартха понял, как нелепо было то желание, которое привело его сюда. Он понял, что не может ничего сделать для сына, что он не вправе приставать к нему. Словно рана, горела у него глубоко в сердце любовь к бежавшему, но в то же время он чувствовал, что не следует растравлять эту рану, что надо дать ей распуститься в цветок и излучать из себя свет.
Но в этот час рана еще не цвела, еще не излучала света, и потому он оставался печальным. То желание - цель, которое привело его сюда, вослед убежавшему сыну, теперь сменилось чувством пустоты. Печально опустился Сиддхартха на землю, чувствуя, как что-то умирает в его сердце, чувствуя пустоту, не видя перед собой никакой радости, никакой цели. Так сидел он погруженный в себя и ждал. Этому-то он научился у реки; ждать, иметь терпение, прислушиваться. И он сидел и слушал, сидел в пыли проезжей дороги и прислушивался к своему сердцу, которое билось так устало и печально, и ждал какого-нибудь голоса. Не один час просидел он таким образом - он уже не видел никаких картин, он все глубже погружался в пустоту, не видя перед собой никакой дороги. А когда рана начинала гореть особенно сильно, он беззвучно произносил слово "Ом", преисполнялся этого Ом. Монахи в саду увидели его, и так как он уже много часов сидел, съежившись, на одном месте и на его седых волосах накоплялась пыль, то один из монахов вышел из сада и положил перед ним два банана. Старик даже не заметил этого.
Из этого оцепенения его пробудила чья-то рука, коснувшаяся его плеча. Он тотчас же узнал это нежное, стыдливое прикосновение и пришел в себя. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который последовал за ним. А когда он взглянул в приветливое лицо Васудевы, в его маленькие, словно заполненные одними улыбками морщинки, в ясные глаза, тогда и он улыбнулся. Тут он увидел перед собой положенные монахом бананы, поднял их, один протянул перевозчику, а другой съел сам. После чего молча отправился с Васудевой в лес и вернулся к перевозу. Никто не обмолвился ни словом о том, что произошло в этот день, - никто не произнес имени мальчика, не говорил о его бегстве, не вспоминал про нанесенную им рану.
Прийдя в хижину, Сиддхартха лег на свое ложе и, когда Васудева через некоторое время подошел к нему, чтобы предложить чашку кокосового молока, то нашел его уже погруженным в сон.
ОМ
Долго еще горела рана Сиддхартхи. Не раз случалось ему переправлять через реку проезжих, имевших при себе сына или дочь, и ни разу не случилось, чтобы он не почувствовал зависти, не подумал: "Столько людей, столько тысяч людей обладают этим сладостнейшим счастьем - почему же я лишен этого? Ведь и злые люди, воры и убийцы, имеют детей, любят их и любимы ими - один лишь я лишен этого блага". Так просто, так неразумно размышлял он теперь, до такой степени уподобился он людям-детям.
Совсем иными глазами глядел он теперь на людей - менее рассудочно, менее гордо, зато с большей теплотой, с большим интересом и сочувствием. Когда он перевозил людей обычного типа - людей-детей, дельцов, воинов, женщин, то они уже не казались ему чуждыми, как бывало: он понимал их, понимал и сочувствовал их жизни, руководимой не мыслями и умозрениями, а инстинктами и желаниями. Он чувствовал себя таким же, как они. Уже близкий к совершенству, переживая свое последнее личное горе, он все же смотрел на этих людей, как на своих братьев. Их суетные, мелкие желания и вожделения перестали казаться ему смешными - они были ему теперь понятны, достойны любви, даже уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость отца, восторгающегося воображаемыми достоинствами своего сынка, слепая неукротимая страсть к украшениям и жажда восхищенных мужских взоров у молодой тщеславной женщины - все эти ребячества, все эти простые, нелепые, но необыкновенно сильные, живучие и властно требующие удовлетворения инстинкты и страсти уже не казались Сиддхартхе ребячеством. Он убедился, что люди живут ими, что ради них они совершают бесконечно многое - предпринимают путешествия, ведут войны, претерпевают всевозможные лишения и страдания. И он научился теперь их любить за это. Он видел жизнь, живое, неуничтожаемое, видел Брахму в каждой из человеческих страстей, в каждом человеческом поступке. Достойными любви и удивления казались ему теперь люди в своей слепой верности, слепой силе и упорстве. Ничем они не стояли ниже, ни одного преимущества не имел над ними ученый и мыслитель, кроме одного, единственного: сознания, сознательной мысли об единстве всего живущего. И подчас у Сиддхартхи даже возникало сомнение, действительно ли это знание, эта мысль имеют такую высокую ценность, не представляет ли и это знание, одно из ребячеств мыслящих людей-детей. Во всем прочем, на его взгляд, мирские люди стояли не ниже, а часто даже и выше мудреца, подобно тому, как и животные, в своем упорном, не уклоняющемся в сторону стремлении к достижению необходимого им, подчас кажутся стоящими выше людей.
Медленно развивалось и созревало в Сиддхартхе сознание, что такое в сущности мудрость, в чем заключалась цель его многолетних исканий. Ведь в конце концов, она сводилась лишь к готовности души, к способности к тайному искусству - во всякую минуту, среди всяких переживаний мыслить, чувствовать, вдыхать в себя единство. Медленно, словно цветок, распускалось в нем это сознание, и на старом детском лице Васудевы он находил отблеск его сияния: гармонию, уверенность в вечном совершенстве мира, улыбку, единство.
Но рана в душе все еще горела - с тоской и горечью вспоминал Сиддхартха своего сына, лелеял в сердце свою любовь и нежность, растравлял свое горе, совершал все безумства любви. Вовек неугасимым казалось это пламя.
И вот однажды, когда рана горела особенно сильно, Сиддхартха, снедаемый тоской, переправился через реку, вышел из лодки и готов был уже отправиться в город, чтобы разыскать сына. Река текла медленно и тихо это было в сухое время года - но голос ее звучал как-то странно, словно она смеялась! Река звонко и явственно смеялась над старым перевозчиком. Сиддхартха остановился, склонился над водой, чтобы лучше слышать, и в медленно протекавшей воде увидел свое лицо. В этом отраженном лице было нечто, напомнившее ему о чем-то позабытом. Он подумал и вспомнил: это лицо походило на другое, которое он когда-то знал, любил и вместе с тем боялся. Оно походило на лицо его отца, брахмана. И Сиддхартха вспомнил, как некогда, юношей, вынудил отца отпустить его к аскетам, как он простился с ним, как ушел и никогда не возвращался. Не заставил ли он своего отца страдать столько же, сколько он страдал теперь из-за своего собственного сына? Не ожидает ли и его, Сиддхартху, такая же участь? Не комедия ли это, не странная и глупая вещь - это повторение, этот бег в роковом круге?
Река смеялась. Да, это так - все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено. Одни и те же страдания повторяются без конца. И Сиддхартха снова сел в лодку и вернулся в свою хижину, вспоминая своего отца и сына, осмеянный рекой, борясь с самим собой, близкий к отчаянию и в то же самое время склонный громко хохотать над собой и всем миром. Увы, еще не зацвела его рана, еще не примирилось сердце с судьбой, еще не засияла радость победы из его страдания. Но все же в нем уже шевелилась надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувствовал непреодолимое желание раскрыть свою душу перед Васудевой, все показать, все высказать другу, с таким совершенством умевшему слушать.
Васудева сидел в хижине и плел корзинку. Он уже не работал у перевоза; его зрение ослабело, и не только зрение, но и руки. Неизменным и цветущим оставалось только ясное, исполненное благожелательности выражение его лица.
Сиддхартха подсел к старику и начал медленно рассказывать. Все, о чем они до сих пор ни разу не заговаривали, все рассказал он теперь: о том, как он побежал вслед за сыном в город, о своих жгучих страданиях, о своей зависти при виде счастливых отцов, о том, что он сам сознает всю безрассудность своих желаний и о тщетности своей борьбы с ними. Все он поведал своему другу - обо всем он мог теперь свободно говорить, даже о самом мучительном. Он раскрыл перед ним свою рану, рассказал и о своем сегодняшнем бегстве, о своей ребяческой затее отправиться в город и о том, как его высмеяла река.