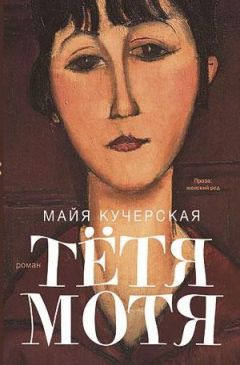Андрей Арев - Мотя
— Вот, пульки модернизирую, — улыбнулась Нюра, — сначала на каждой писала надфилем «прости», теперь просто крестик делаю, слово очень долго писать. Я на летней практике, на заводе, вообще свистящие пули делала, они у меня «Марсельезу» в воздухе пели, так красиво… но там станки все нужные были.
— Кого ты собралась убивать? — спросила Мотя.
— Павликов, конечно же. Они нас убили, мы — их. Всё честно. Устроим им холат. Помнишь, как у Чуковского:
«Мой мальчик, мой пай, попал под трамвай,
И душу порезал о рельс…»
«Успокойся, Арджуна, послушай -
мы пошьем ему новую душу!»,
— и мы, правда, пошьем им новые, более вместительные души, нынешние у них мелковаты — сказала Нюра, и вытащила из цинка очередной патрон.
— Холат, так холат. Ты будешь стрелять? — удивилась Мотя, зная, что никаких особенных достижений в стрельбе у Нюры не было, а у нее, Моти, был значок «Ворошиловский стрелок ворошиловского стрелка», и она всегда на отлично выполняла СУУС ВВ, с первых выстрелов укладывая поясную на заборе, ростовую и «бегушки».
— Не–ет, — снова улыбнулась Нюра, — стрелять у нас будешь ты, как майор Лариса Ивановна Крофт, с двух рук. Как ефрейтор Молдагулова и часовой Калимулин [6] в одном флаконе. А я буду Невада–тян, мне Кока вон какие мачете соорудил.
Нюра показала две большущие, сантиметров 50 в длину, ложки для обуви, с кольцами на ручке. Эти сработанные из нержавейки ложки Кока сделал плоскими, заточил с двух сторон, а рукояти обмотал черной матерчатой изолентой — Нюра продела в кольца мизинцы, и виртуозно покрутила ложки как керамбиты, меняя хват с прямого на обратный: «Сайок Кали».
— Где ты взяла револьверы? — спросила Мотя у подруги.
— «Откуда–то во сне взялись револьверы», — ответила Нюра цитатой. — Со скрапа [7] притащила, их там много, на переплавку привезли. А в каком–то цеху даже в асфальт закатали, вместо щебенки. Это Mauser ZigZag, видишь? Прямо удивляюсь, откуда их там столько. Хорошие машинки.
— Неплохие. Хотя я бы предпочла РШ-12, — улыбнулась Мотя.
— Я тебе перед смертью письмо пневмопочтой отправил, Мотя, — сказал Кока, который сидел в углу комнаты, и затачивал напильником большой пожарный багор — выкрашенный красным, багор явно раньше висел на одном из щитов вместе с таким же красным топором и смешными коническими ведрами.
— Письмо…, — Мотя задумалась, вспоминая.
— Да ладно, не тужься, — засмеялась Нюра, — там Кока писал о том, что ему рассказал Ятыргин. А Ятыргин ему рассказал, что для получения стального сердца нужна шихта — это такая смесь материалов, которая загружается в мартеновскую печь. Полученную сталь мы выльем в изложницу, которой и будет графитовое сердце Веры Мухиной.
— Ага, — кивнула Мотя, — и что же будет шихтой?
— Павлики. Вернее, их трупы. Ну, и еще кое–что, — ответил Кока.
— Что ж, понятно. Когда выдвигаемся?
— А прямо сейчас, что тянуть, — Нюра протянула Моте револьверы и рюкзак с патронами. — Идем?
— Идем, — согласились Мотя и Кока.
На почти пустом трамвае две странных девочки с рюкзачками за спиной и разноглазым котенком на руках и мальчик с пожарным багром пересекли реку Урал, уверенно промаршировали мимо охранницы на проходной, быстрым шагом миновали крытые переходы, просочились сквозь ворота цеха и остановились перед последней дверью.
— Разворачивайтесь в марше!
Хватит шептать: God bless them.
Тише, пасторы!
Ваше
Слово,
товарищ Ван Хельсинг,
— шептала Нюра.
— Начали? — спросила Мотя.
— Девочки, а посчитаться? — поправил очки Кока.
— Смирнов, ты все же удивительный начетчик и талмудист, — прошипела Нюра, — ты еще Бардо Смерти им прочти.
— У попа была собака, оба умерли от рака, — тыча стволом, посчитала Мотя. Ствол остановился на Нюре.
— Холат! — сказала Нюра, и пнула дверь ногой, влетая в проем сверкающим вихрем, — Покажитесь, дети нежити! я — голос прощения, что уничтожит ваше тщетное бытие!
Мотя указала стволам цели, и два Первосвидетеля рухнули, заливая кровью пол.
Следом, вращая багром, как содэгарами, появился Кока.
— Каждый день, проснувшись, — шептал Кока сквозь гудение багра, протыкая грудь очередного павлика, или подсекая подвернувшуюся вражескую ногу, — говори себе: сегодня я столкнусь с человеческой нетерпимостью, неблагодарностью, нахальством, предательством, недоброжелательностью и эгоизмом. Их корень — неспособность людей различать добро и зло. Но что до меня — я ведь уже понял, что хорошо, и что плохо. И осознал природу заблудших людей.
— Холат! — весело орала Нюра, проносясь по залу смертоносной бурей, то там, то сям взлетая над черно–красной толпой. Гремели выстрелы, слышалось урчание багра и вопли смертельно раненых.
— Они — мои братья не в физическом смысле, но они тоже наделены разумом и несут в себе частичку божественного замысла, — продолжал Кока. — Поэтому ничего из их слов и действий не может причинить мне вред, ничто не способно запятнать меня. Я не могу злиться на братьев или чураться их, ведь мы с ними рождены для общего дела, как две руки, две ноги, два глаза или челюсти, верхняя и нижняя. Когда две руки мешают друг другу — это нарушение законов природы. А что такое раздражение, как не форма такой помехи?
— Читай им, Мотя! — закричала Нюра, пробиваясь сквозь разрубаемые тела к Ятыргину.
Мотя опустилась на колено, заряжая наганы, и начала: «На это он отвечал мне: пойди, спроси беременную женщину, могут ли, по исполнении девятимесячного срока, ложесна ее удержать в себе плод? Я сказал: не могут. Тогда он сказал мне: подобны ложеснам и обиталища душ в преисподней…»
— Безумие висит на сердцы юнаго: жезл же и наказание далече от него, — поддержал Кока, раскидывая багром павликов, пытающихся схватить Мотю.
Мотя зарядила пистолеты, и пули снова засвистели по залу.
— Отдай мое стальное сердце, Ятыргин! — вопила Нюра, заливая кровью зал.
Скоро все было кончено.
— И сразу же в тихое утро осеннее,
В восемь часов в воскресение,
Был приговор приведён в исполнение, — сказала Нюра, вытирая свои ножи от крови.
Теперь для получения Стального сердца нужна была шихта. Мотя, Нюра и Кока сложили трупы павликов в вагончики–мульды, а оставшиеся в живых принесли из города части Сталина: металлизированный кусочек мозга из 1–го квартала Соцгорода Эрнста Мая; затвердевшую кожу от его сапог с улицы Строителей, из 14–го квартала, построенного пленными немцами; губку легкого из Красной Башкирии; схватившиеся цементом крошки табака из бункеров на Ленинградской; дым трубки с аглофабрики; пыль сюртука из копрового цеха; мумию левой руки с горы Магнитной, к которой примагнитилось войско хана Батыя, и уйти смогло, лишь сбросив латы; блеск погон с Солнечной Гильотины Великого Полдня на углу Завенягина и Доменщиков; гнев из церкви Николая Чудотворца на Чкалова; слезы из водохранилища и коленную чашечку с южного моста — все это было сложено вместе с красногалстучными трупами. Туда же отправилось сердце Авраамия Завенягина.
Один из павликов забрался в мульдозавалочную машину, и отправил шихту в мартеновскую печь. Когда сталь для сердца была готова, и ее слили в черное графитовое сердце–изложницу, вырезанную Верой Мухиной и закопанную в призрачном оленьем парке Завенягина.
Кока ударил кувалдой по изложнице — черное сердце треснуло, и из него выпал большой кусок багрового шлака. Нюра вздохнула разочарованно, и Кока ударил кувалдой по шлаку, тот раскрошился, и на пол упала, как показалось Моте, капля ртути — это было маленькое, с детский кулачок, стальное сердце — оно билось. Мотя подобрала его и положила в шкатулку, которую ей протянула Нюра.
— Ну вот, первое сердце, — сказала Мотя.
— И когда легла дубрава
На конце глухом села,
Мы сказали: «Небу слава!» —
И сожгли своих тела,
— поправил очки Кока.
Помолчали. Уцелевшие павлики жались у стены цеха. Кельвин терся о ноги Нюры.
— Прощай, Мотя, — вдруг сказала Нюра. — И ты прощай, Смирнов. Я вас люблю, берегите себя. Простите меня, но я остаюсь здесь — Огненным богом марранов, Хозяйкой Медной горы, Феей Убивающего домика и всем таким прочим.
— Мы забрали у них сердце, — она кивнула на павликов, — что–то нужно оставить взамен. Я останусь. А вы расскажете потом, чем все кончилось.
Она заплакала и обняла друзей.
4. Север
2
Теперь, после возвращения из могил, ни Моте, ни Коке больше не было нужно спать, но иногда они просто впадали в полузабытье, погруженные в свои мысли и воспоминания, перебирая их, словно зерна четок.
Мотя пришла в себя в автобусе от того, что он остановился — в окно было видно мрачное и серое здание, и часть надписи славянской вязью — ОЛЬСК. Что это — Тобольск? Мотя отодвинула штору — герб, обычно соединяющий в себе чум, снежинку и нефтяную вышку, и надпись — ЮДОЛЬСК.