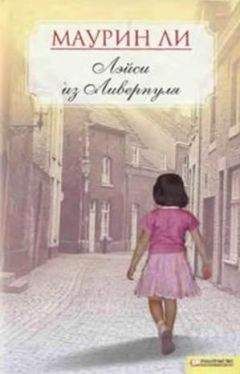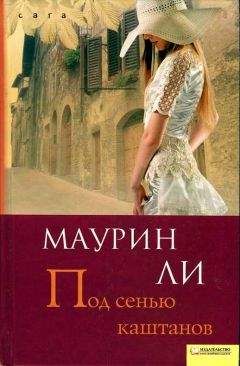Шолом-Алейхем - Два мертвеца
Малышей Ротшильд боится, он берет ноги на плечи и бежит, мелко перебирая ногами, куда глаза глядят. Ребятишки бегут за ним, не переставая напевать… Увидят это старшие и кричат на них:
– Ах, будь вы неладны, сорванцы, обормоты, архаровцы! В хедер пошли, байстрюки, в хедер!
В Касриловке, может быть, и нашлось бы кому заступиться за несчастного Ротшильда, и голодать ему, пожалуй, не дали бы… Но кто же виноват, что есть чудаки, которые предпочитают умереть, нежели руку протянуть? Кроме того, давайте рассудим по справедливости: обязана ли Касриловка помнить о каждом неудачнике в отдельности? Мало ли у человека своих бед, несчастий и забот? Люди благодарят бога, когда им удается прожить день, когда кое-как перебьешься с женой и детьми от субботы до субботы.
Зато, – что правда, то правда, – когда наступает святая суббота, Ротшильд – человек обеспеченный. Допустит разве весь город, чтобы еврей в субботу голодал? Уж как-нибудь, что бог пошлет, лишь бы вместе, а один лишний человек за столом – это ведь, собственно, всего лишь еще одна ложка… Не беспокойтесь, он голодным не уйдет, а если трапеза и не ахти какая – тоже не беда: утроба не взыщет. Зато сидишь со своими за столом, а на столе – следы субботней халы, рыбьи кости и два медных подсвечника из-под свечей, над которыми вчера произносили молитву… Все это, вместе взятое да еще воспетое сладостными субботними застольными песнопениями, обретает особую прелесть, и ни к чему тогда все разносолы и лакомства, придуманные прихотью людей, дабы заманить нас поглубже в ад…
Велика сила субботы! Не узнаете тогда ни касриловского обывателя, ни субботнего его гостя, того же неудачника Ротшильда.
Глава четвертая
Пропостившись в канун праздника пурим, еле дождавшись вечера, чтобы идти в синагогу слушать «Сказание об Эсфири», и хорошенько разделавшись с Аманом, прочитав все, что полагается, проголодавшиеся касриловцы заторопились домой, чтобы поскорее разговеться – «каждый под своей виноградной лозой», «под своей смоковницей» – свежим, горячим праздничным пирогом с маком. И так как все очень торопились и были голодны, то в великой спешке совершенно позабыли о Ротшильде, как если бы его и на свете не было. А Ротшильд, увидав, что все бегут, тоже побежал своим мелким шагом без всякой цели, по грязным улицам и переулкам благословенной Касриловки.
Он бежал мимо полуразвалившихся и полуосвещенных домов и лачуг, время от времени заглядывал в окна и видел жующие рты и глотающие горла. Что жевали рты и что глотали так жадно горла, ему трудно было видеть, но он догадывался, что это, должно быть, свежие, сладкие треугольные пироги, начиненные сладким маком, тающим во рту… И кто-то проснулся у Ротшильда в желудке, потянул за сердце и шепнул на ухо: «Дурень этакий! Чего ты толчешься невесть где, в мире фантазии? Отвори дверь, войди и скажи: «С праздником вас! Не найдется ли у вас чем разговеться? Я уже третий день не ел…» Ротшильд пугается сам себя. Никогда еще такие мысли не приходили ему в голову – ворваться в чужой дом, как разбойник! И чтобы лукавый не попутал и не внушал черт знает что, Ротшильд пошел посреди улицы, по самой грязи, и вдруг наткнулся в темноте на что-то мягкое, толстое и живое и упал в лужу прямо на нашего героя номер первый – на сапожника Хлавно.
Пускай теперь Ротшильд немного полежит, а мы посмотрим, как поживает сапожник Хлавно.
Глава пятая
Сапожник Хлавно (тысячу раз просим у него прощения за то, что заставили так долго лежать в луже) чувствовал себя в новом положении не так плохо, как представляет себе читатель. Человеку свойственно приспособляться к любому положению, как бы скверно и горько оно ни было. Коль скоро так суждено, чтобы лужа, знаменитая касриловская лужа, стала для него ложем, он постарался сделать все возможное, чтобы лежать как следует, а не просто лежать, ничего не делая. Он с негодованием думал о богачах и вымещал весь свой гнев на богаче реб Иосе: пусть тот не думает, что сапожник Хлавно пьян. Он клялся: дай ему бог так видеть Вайзосо под венцом, как он даже не под хмельком! Кто это выдумал о нем, сапожнике Хлавно, что он пьяница? Это, наверное, она, его жена Вашти, провались она, выдумала все!..
Произнеся имя Вашти, сапожник умолк и задумался. Имя Вашти вошло в голову, как деревянный гвоздь в подошву. Он как будто отлично помнит, что жену его зовут Гитл, и вдруг – Вашти!.. Как же это Гитл превратилась в Вашти? И не только имя – сама она изменилась, совсем не та женщина, что была прежде. Одета, как царица, в золотом чепце, да и с головы до ног в золоте. Он решает, что это для него не дело – ссориться с ней сейчас. Наоборот, с такой красулей надо ладить. Сапожник пододвигается к ней все ближе и ближе, но она отодвигается… Не хочет она его. Наверное, потому что он любит «живительную влагу»… Ах ты, болячка ее матери! Не пристало ее папаше, – а вдруг скажут в городе, что муж у Вашти – пьяница!
– Не встать мне с этого места, если я когда-нибудь хоть каплю водки в рот возьму! Вашти, ты слышишь или нет? Не веришь? Вот тебе моя рука…
Хлавно протягивает в лужу пухлую руку с короткими черными пальцами и понять не может, почему у Вашти такая холодная и мокрая рука с такими холодными, скользкими пальцами. Невозможно обхватить ее за талию, дух из нее вон! Он раскидывает руки и обнимает… несчастного Ротшильда!
Глава шестая
Философы утверждают, что от испуга может произойти всякое. От испуга беременная женщина может, упаси бог, выкинуть, от сильного испуга человек, не ровен час, может сойти с ума, а иной раз получить удар и умереть. Они дошли умом, что с перепугу пьяный может протрезвиться в одну минуту. Так говорят философы. Поэтому нас не удивит, что наш герой, сапожник Хлавно, как только обхватил злополучного Ротшильда, от испуга протрезвился. Не настолько, правда, чтобы тут же подняться из лужи и стать человеком, как говорится, самостоятельным, но настолько, чтоб постепенно к нему начали возвращаться все чувства. Прежде всего чувство осязания помогло ему понять, что «Вашти» – это человек с бородой. Потом в нем проснулось чувство слуха, и он услышал четкие слова: «Шма Исроэл! Гвалт! Люди, спасите!» Чувство обоняния подсказало ему, что оба они лежат в луже, в пресловутой касриловской вонючей луже. Но как он ни напрягал свое зрение, чтобы разглядеть, кого он держит, – это ему никак не удавалось, потому что луна скрылась за темными тучами и ночь простерла свои черные крылья над всей Касриловкой.
Ротшильд тоже начал понемногу приходить в себя, и обуявший его смертельный страх прошел. Оба наши героя обрели дар речи. И вот какой разговор произошел между ними. Передаем его слово в слово:
Хлавно. Ты кто такой?
Ротшильд. Это я.
Хлавно. Что ты тут делаешь в луже?
Ротшильд. Ничего.
Хлавно. Какой черт тебя сюда привел?
Ротшильд. Не знаю.
Хлавно. Тьфу ты, пропасть! Ты кто? Ремесленник? Сапожник?
Ротшильд. Нет.
Хлавно. А кто же? Барин?
Ротшильд. Нет, нет.
Хлавно. Так кто же ты, ко всем чертям!
Ротшильд. Я… я… смертельно голоден.
Хлавно. Вот оно что! Ты смертельно голоден? Хм… А я мертвецки пьян. Погоди-ка, если я не ошибаюсь, ты не Ротшильд ли, часом? Да, честное слово! Я сразу узнал, что это ты… В таком случае, братец Ротшильд, может быть, ты помог бы мне вылезть из этой лужи, и если ты чувствуешь, что у тебя есть ноги, мы оба прошлись бы ко мне домой и что-нибудь перекусили… Потому что у меня все время вертится в голове, что сегодня праздник… Симхес-тойре или пурим? Не скажу тебе точно, но какой-то праздник обязательно. Пусть придут все цари Востока и Запада и скажут, что нет, я им в глаза плюну!
Прошло немного времени, пока оба они кое-как выползли из лужи и с большим трудом пустились в путь, поддерживая друг друга… То есть Ротшильд поддерживал Хлавно, чтобы тот не упал. У сапожника протрезвилась только голова, ноги все еще путались. И таким образом они дошли до…
Но тут мы хотим оставить обоих наших героев и на минутку заглянуть в дом к сапожнику Хлавно – посмотреть, что делает его жена Гитл.
Глава седьмая
Сколько бы критики не критиковали, сколько бы пересмешники ни издевались, а жена женой остается.
Как только начало смеркаться, Гитл стала ждать мужа, думая, что вот он придет из синагоги разговляться. Ради этого она по-праздничному накрыла на стол: поставила прежде всего то, что Хлавно любит, – бутылку и стопку. Возможно, что в бутылке и была всего-то одна стопка, а может быть, ради праздника, вина хватило бы и на две стопки. Зато на столе красовался треугольный пирог с маком, огромный, широкий, настоящий сапожничий пирог! Казалось, пирог говорит: «Хлавно, где ты? Иди ешь меня!» Но Хлавно не слышал: он в это время был у своих приятелей – сапожников и крепко выпивал ради святого праздника.