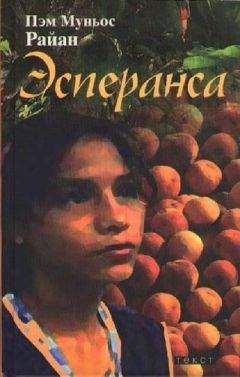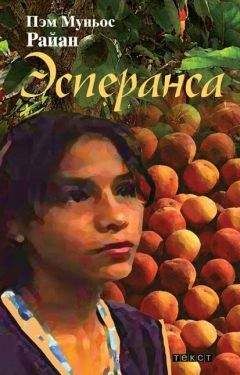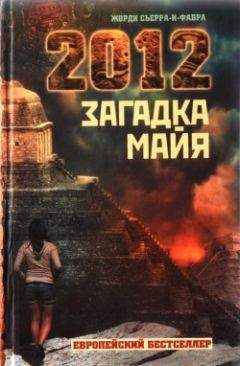Жауме Фустер - Гибельное одиночество
Завтра в семь, тихо-тихо, чтобы никто не видел.
9Идет дождь. Город как будто проваливается в грязь, которая, кажется, хочет затянуть в себя проходящих людей. Служебные машины оставляют на мостовой борозды, с высокомерием победителей окатывают всех водой с головы до ног.
Эсперанса чувствует себя опустошенной. От долгого сидения у нее затекли ноги, устали глаза — она много плакала. Полный бледный парень смотрит на нее и молчит. Слова не нужны. Она вернется в комнату, где пахнет заточением и могилой, расскажет о своем одиночестве столу, который двигается, худосочная и болезненная девушка будет говорить о далеких землях и тропической жаре или о сырой земле, взрыхленной штыками, которые пригвождают тело навсегда.
10Она не будет говорить о далеких землях. Сеньор Энрик поглаживает батистовый платочек, пахнущий одеколоном. Сеньора Анита нюхает платок, пристально смотрит на портрет женщины и просит всех сосредоточиться.
Худосочная и болезненная девушка говорит о тьме, о мире, об огромных расстояниях. Тогда сеньор Энрик немножко поплакал. Из его блеклых глаз закапали мелкие, как дневной дождик, слезы. Он не рыдает и не сотрясается. Но по бесцветным щекам мужчины текут слезы.
Сеньора Анита утешает его. Она приносит рюмочку ликера, гладит по спине. Сеньор Энрик закашлял — он поперхнулся и попросил прощения. Все наклонили головы, как будто бы чувствовали себя виновными в бомбежках или, может быть, в его слезах.
Потом, на лестнице, сеньор Энрик вызвался проводить Эсперансу. Вместе они перешли улицу, не глядя на разрушенный дом. Остановившись перед подъездом, Эсперанса начинает рассказывать. Она чувствует, как ком в горле рассасывается, пока она говорит. Замужество, письма, молчание, безысходность. Официальные учреждения, полный бледный парень, неуслышанные молитвы. Сеньор Энрик уже не плачет. Он идет рядом и берет ее за руку, как будто потерялся и боится не найти дорогу назад.
11Сеньора Кармета открывает дверь. Она возвращается растерянная, как будто гимн поднялся по лестнице, собирая дань с жильцов. Эсперанса выходит в прихожую. Глаза у нее искрятся, сердце готово выпрыгнуть из груди. Слова извинения, прошептанные с опущенными глазами. Это не был ни гимн, ни кусок плоти, растерзанной штыком. Сеньор Энрик растерялся. Эсперанса отбрасывает в сторону свое одиночество, прижимает его к груди, и оба спускаются по лестнице.
12Дождя не было, но небо нависло, серое, как предчувствие, как руины, как мысли побежденного города. Люди, у которых поражение перекинуто через руку, как плащ. Холодно.
Эсперанса не осмеливается даже говорить. В трамвае, пока сеньор Энрик покупает билеты, она думает об ушедших временах, мучаясь воспоминаниями о летних трамваях, отвозивших ее к Жорди.
Сеньор Энрик садится рядом. Он смотрит на свои ухоженные руки со вздувшимися венами, с коротко подстриженными ногтями. И его сдержанные слезы кажутся такими же уместными, как никелированные поручни, блестящие сиденья и надписи, запрещающие разговаривать. Это слезы покорности судьбе, слезы, вызванные знанием того, что до сих пор было неведомо. Эти слезы рассказывают об общей могиле, об останках, которые раньше внушали любовь и уважение, об останках человека, рядом с которым состарился он, его любовь и страсть.
13Маленькая, забитая мебелью квартирка. В столовой два серванта ломятся от посуды. Эсперанса понимает, что фарфоровые чашки и бокалы не вяжутся с теснотой квартирки и темной лестницей. Но она не обращает на это внимания. Сейчас все кажется естественным. Даже страх. Она не слушает ни слов сеньора Энрика, ни болтовни хозяйки, ни односложных замечаний полного человека, у которого шея обернута шарфом, а поверх рубашки надета пижамная куртка. Для нее существуют только глаза загорелого парня, худого-прехудого, который озирается, как будто он еще не привык к ограниченному пространству: оно, может быть, вполне безопасно, но тут не хватает простора и товарищей, не хватает запаха отхожих мест и разрывов пуль. Кажется, что он задыхается среди засаленных стен и нагромождения мебели. Эсперанса отпивает глоток из поставленной перед нею кем-то рюмки. И тогда они приступают к главному. Они начинают говорить о войне. Парень был ранен в ногу, четыре месяца провел в госпитале, и его отправили домой. В столовой еще витает страх перед концентрационными лагерями и городскими тюрьмами. Парень яростно курит, время от времени потирая раненую ногу. И только когда заходит разговор о войне, оживляется, глаза у него начинают блестеть, как будто солнце всех трех лет осветило его лицо, а ветер кастильских равнин пробился через поры, пропитанные потом дорог.
Эсперанса вспоминает письма Жорди. Те же слова, те же образы, та же гордость и тот же страх. Она узнает то сражение, то офицера, то пейзаж, то смешную историю. Стоит только закрыть глаза — и она видит почерк Жорди.
Но конкретные вопросы не рассеивают ее сомнений. Госпиталь, переход границы со всем полком...
Жорди, что дальше?
14Сеньор Энрик чувствует себя виноватым. Ведь это он нашел парня, подумав, что, быть может, тот что-то знает, что у него могут быть сведения, которые Эсперанса вот уже четыре месяца разыскивает по всем учреждениям города.
Мрамор серый, как ноябрьское море. У мрамора тот цвет, который они заслужили, слишком холодный и правдивый. Цветы появятся потом: должно пройти время, чтобы раны затянулись. А сейчас здесь только слезы, серые, как море и как мрамор.
Спрашивает Эсперанса. Сеньор Энрик не может. Голос его разбивается на тысячи звуков, когда они входят в душное учреждение.
Это Эсперанса спрашивает, уже зная ответ, и это она ведет сеньора Энрика на общую могилу. Общую могилу, где закапывают кости, хрящи, ненависть, любовь, ожидание и страх, уравнявший всех.
15Сеньора Анита смотрит на портрет Жорди. Черты ее лица напрягаются, а глаза превращаются в два горящих отверстия. Затем, пока фотография переходит из рук в руки, она что-то бормочет. Эсперанса чувствует себя неловко, когда достает фуражку, грязную, пропотевшую, но еще хранящую запах его волос и ветер равнины.
Эсперанса ждет менянаписано на подкладке. И почерк Жорди кажется наивным, беспомощным, чужим. Эта фуражка всего лишь старая тряпка, отголосок иных времен, и Эсперансе стыдно. Но сеньор Энрик, который пришел только ради нее, берет фуражку, как будто это реликвия. И в его руках старая тряпка приобретает смысл, стыд уходит, уступая место гордости.
Молчаливая равнина над дрожащими пальцами, над круглым столом, над стенами, пропахшими заточением.
Голос сеньоры Аниты звучит как похоронное песнопение. Эсперансу бьет дрожь. И после вызывания духов, после молчания, длящегося вечность, худосочная и болезненная девушка начинает бормотать. Сначала тихо, монотонным голосом, нараспев. Затем речь становится более внятной. Эти слова воссоздают уже знакомые Эсперансе картины: военный поезд, летний зной на кастильской равнине, силуэты летящих бомб...
И вдруг снова молчание. Ни сырой земли, ни острых штыков, которые распарывают внутренности, ни людей в белом. Только крик Эсперансы, поднимающийся до самых темных уголков и не встречающий отклика, разрывает молчание.
16Дети едят серый хлеб и выданный по карточкам шоколад. Маслянистая вода бьется о скалистый волнолом. И скудное вечернее солнце сглаживает острые углы скал, укорачивает размеренный полет чаек. Поток желтого света заставляет щуриться покрасневшие от разлуки глаза. Она опускает голову. Ухоженные руки с коротко подстриженными ногтями, опутанные венами, сворачивают папиросу. Это те же жесты, что и у Жорди. Большой и указательный пальцы правой руки придерживают рисовую бумагу, пока указательный палец левой разравнивает щепотку табака. После этого двумя указательными и двумя большими пальцами быстро свертывает бумагу, оставляя полоску, которую смачивает языком. Разравнивает трубочку, разминает один из углов и засовывает ее между губ. Чиркает спичкой и с наслаждением делает первую затяжку.
Затем он пристально смотрит на нее, и зрачки его старческих глаз сужаются под холодным ноябрьским солнцем. Говорит он спокойно, размеренно, как будто не осмеливается говорить о том, что на самом деле известно... Она видит, как он погрустнел — он в конце концов примирился со смертью. И теперь это всего лишь такой же старик, как другие, курит сигарету и сидит на холодном ноябрьском солнце, пока дети играют на камнях.
Он говорит о жене так, как будто она умерла много лет назад. Он с легкостью вспоминает — они часто приходили сюда смотреть, как играют дети, которых у них не могло быть никогда. А Эсперанса слушает его и думает, что она тоже приходила сюда с Жорди и что это можно рассказывать теперь как приятное воспоминание, как историю, которая произошла с другой женщиной.