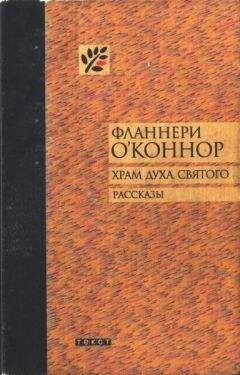Фрэнк О'Коннор - В процессе работы
Определения подобраны не только с изощреннейшей тщательностью ("высокие столбы"), но некоторые слова намеренно повторены, причем повторены, как правило, либо в несколько ином порядке, либо иногда в несколько иной форме, чтобы, с одной стороны, дать читателю почувствовать - это не просто повторение, а с другой, чтобы в его мозгу отложился гипнотический эффект повтора. Один из применяемых Джойсом способов - повтор существительного, стоящего в конце периода, в начале следующего, где оно играет роль подлежащего:
"...по улицам. Улицы...", хотя ключевыми словами отрывка выступают прилагательные "теплый", "сумрачный", "неизменный" и "непрерывный". Тот же прием использован и в другом отрывке при описании арфиста на Килдар-стрит.
"Он безучастно пощипывал струны, иногда быстро взглядывая на лицо нового слушателя, а иногда - устало - на небо. Его арфа, безучастная к тому, что ее чехол спустился до колен, тоже, казалось, устала и от посторонних глаз, и от рук своего хозяина. Одна рука выводила в басу мелодию "Тиха ты, Мойль", а другая пробегала по дисканту после каждой фразы. Мелодия звучала глубоко и полно".
В этом отрывке Джойс, пользуясь флоберовским "точным словом", не только требует от нас, чтобы мы увидели эту сцену так, как увидел ее он, но и добивается - с помощью специально подобранных, хотя и не лезущих в глаза соединений ключевых слов: "безучастный", "рука", "усталый", "мелодия" того, чтобы мы испытали те же чувства, какие испытал он. Такая манера завораживающего письма - как бы она ни сказалась в дальнейшем на литературе - нечто совершенно новое в английской прозе. По моему мнению, на котором я отнюдь не настаиваю, там, где дело касается живописного изображения, как в первом процитированном отрывке, оно вполне себя оправдывает, но когда - как во втором - им пытаются передать настроение, то не знаешь, куда деваться от неловкости. Уподобление арфы женщине, обнаженной и усталой от скользящих по ней рук мужчины, вызывает у меня такое же неприятное ощущение, как застывший край отменной, по всем своим другим качествам, бараньей отбивной. В литературе есть несколько блюд, которые можно и даже нужно сервировать холодными, и в них уместны любые натуралистические описания. Но, что касается остальных - тех, где дело идет о страстях и настроениях, - их следует подавать на стол прямо с огня.
Самую интересную часть сборника составляет, на мой взгляд, группа рассказов, которую я назвал бы заключительной, - "День плюща", "Милость божия" и "Мертвые", хотя последний можно с полным основанием считать еще одним, самостоятельным типом новеллы.
"День плюща" и "Милость божия" написаны в ироикомической, пародийной манере; в первом - высмеивается политическая жизнь Ирландии после Парнелла, во втором - ирландский католицизм.
Несколько платных агентов и прихлебателей, состоящих при кандидате от националистической партии на выборах в муниципальный совет, сидят в его унылой конторе в надежде получить немного денег или по крайней мере распить бутылку дарового портера из бара, принадлежащего кандидату ("День плюща"). В контору на минуту заскакивает парнеллист Джо Хейнес, и после его ухода мистер Хенчи, самый разговорчивый из всей братии, намекает, будто преданность Хейнеса делу Парнелла вызывает сомнения и даже не исключено, что он английский шпион. Но тут мальчик приносит из пивной бутылки с портером, настроение у собравшихся поднимается и, когда парнеллист появляется вновь, его встречают вполне радушно, а мистер Хенчи даже называет его по имени - прием, с которым, в сильно преувеличенном виде, мы затем встретимся в "Улиссе". Три пробки, удаленные старинным способом - нагреванием бутылки, - взлетают на воздух одна за другой, а Джо произносит банальную речь в честь покойного Вождя.
Три пробки, как я уже однажды писал, это три залпа над могилой героя, а скорбная речь Хейнеса - дешевка, заменяющая траурный марш. Эта пародийная сцена преподносится автором с совершенно каменным лицом.
В "Двух рыцарях" самое большее, на что оказывается способным воображение ирландца, - это выжать из влюбленной женщины несколько грошей, а в "Дне плюща"
наивысшая дань, которую выродившаяся нация способна воздать покойному Вождю, - залп пробками из пивных бутылок, полученных в уплату за предательство всего того, во имя чего он жил.
Как сказано выше, нетрудно представить себе, что три первых рассказа из "Дублинцев" перенесены на страницы "Портрета художника в юности". Но вряд ли возможно представить себе, что туда попал "День плюща". Правда, в сцене рождественского обеда в "Портрете" возникает та же тема, но реализуется она со щемящей душу болью, и представить себе "День плюща" в этом контексте невозможно, как невозможно подумать о том, чтобы рождественский обед занял место "Дня плюща" в "Дублинцах". Вот здесь-то Джойс-новеллист подошел к развилке своего пути; он исключил из рассказов некоторые очень важные вещи, а поступив так, совершил ошибку - для новеллиста роковую. Он лишил своих обездоленных права на самостоятельное существование.
Это звучит несколько сложнее, чем оно есть на самом деле. Речь идет о том, что новеллист вправе изображать своих обездоленных людьми, принимающими на веру и несущими любую ахинею - на то они и обездоленные. Горьковские босяки, чеховские крестьяне, лесковские ремесленники порою верят в такую ересь, которая вызвала бы приступ смеха у школьника, но это не означает, что они ниже нас умственно или духовно; порою они даже лучше нас. Они обладают своим мастерством, своей мудростью.
Всего этого как раз и лишены герои рассказа "Милость божия", в котором величие католической церкви представлено через призму видения дублинского обывателя. Если верить брату Джойса - Станислаусу, - в основу рассказа положена тема "Божественной комедии":
он начинается в Аду - в подвальном этаже пивного бара, где помещается уборная, - продолжается в Чистилище - у постели больного героя в его коттедже - и заканчивается в Раю - в церкви на Гардинер-стрит. Это звучит вполне достоверно: Джойс был насквозь пропитан литературой и - по крайней мере в последних своих произведениях - любил поиграть литературными аллюзиями и ассоциациями, основывая сюжеты своих книг на мифах и теориях, так что половина удовольствия от их чтения состоит в том, чтобы узнавать эти аллюзии - игра, обладающая тем приятным свойством для автора, что гордый своей образованностью читатель склонен считать его ученым филологом.
Впервые мы встречаемся с коммивояжером мистером Кернаном, когда, упав с ведущей в уборную лестницы, он лежит без сознания, откусив себе кончик языка. Мирская власть в лице полицейского уже готова отправить его в исправительное заведение, но на помощь пострадавшему приходит некий мистер Пауэр, который отвозит его домой. Собравшиеся у постели мистера Кернана друзья - мистер Каннингем, мистер Пауэр, мистер МакКой и мистер Фогарти решают, что для блага его души ему необходимо вместе с ними говеть. Сначала разговор идет о власти мирской - полицейском, чуть было не посадившим мистера Кернана под замок, что было бы скандалом, по мнению его друзей, - а затем о власти небесной, то есть о тех священнослужителях, кого они знают, и тех, о ком слышали, - слышали на очень значительном расстоянии, ибо все, что о них сообщается, чистой воды фольклор.
Наконец четверо приятелей вместе со своим кающимся другом посещают церковь на Гардинер-стрит и слушают проповедь прославленного иезуита, отца Пэрдена, который развивает в ней трудный, по его собственному определению, евангельский текст: "Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители". Сам он считает, что "это текст для дельцов и представителей свободных профессий", но, как совершенно очевидно из его проповеди, разбирается в нем не больше, чем мистер Каннингем в истории церкви, то есть не понимает ни бельмеса.
" - Мне часто приходилось слышать, что он (Лев XIII. - М. Ш.) был одним из культурнейших людей в Европе, - сказал мистер Пауэр. - Я хочу сказать, помимо того, что он был папой.
- Безусловно, - сказал мистер Каннингем, - пожалуй, самым культурным. Его девиз, когда он вступил на папский престол, был "Lux на Lux" - "Свет на свету", - Нет, нет, - сказал мистер Фогарти нетерпеливо. - По-моему, здесь вы не правы. Его девиз был, по-моему, "Lux in Tenebris" - "Свет во тьме".
- Ну да, - сказал мистер Мак-Кой. - Tenebrae.
- Позвольте, - сказал мистер Каннингем непреклонно, - его девиз был "Lux на Lux". А девиз Пия IX, его предшественника, был "Crux на Crux"; то есть "Крест на кресте"; это подчеркивает разницу между их понтификатами" [Джеймс Джойс, там же, с, 234 - 235].
Джойсу, ученому богослову, знавшему о церкви не меньше любого иезуита, ничего не стоило поиздеваться над своими героями. Ни Горький, ни Лесков, ни Чехов никогда этого не сделали бы. Обездоленные Джойса обездолены не жизненными обстоятельствами, а джойсовской иронией.