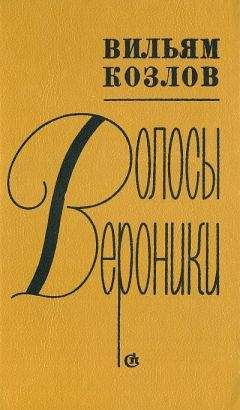Уолдо Фрэнк - Смерть и рождение Дэвида Маркэнда
Дверь тихо открылась - на пороге стоял девятилетний мальчик, посмеиваясь над "ленивцем", который неподвижно лежал, закинув руки за голову и высунув ноги из-под голубого одеяла. У него была отцовская круглая большая голова и черты лица матери, только окрашенные нежной мальчишеской суровостью, но трепетная живость его движений не свойственна была ни одному из родителей.
- Хелло, папа! - сказал он.
- Хелло, сын!
- Пойдем сегодня в парк?
- Представь себе, не могу. - Рука Маркэнда протянулась и погладила волосы мальчика.
- Ну, вот! Никогда ты не можешь.
- Но-но, это неправда.
- Мы хотим взять с собой мой новый велосипед.
- Я бы с радостью. Но сегодня важное собрание у тети Лоретты.
- Дело? В воскресенье? У тети Лоретты?
- Ты мне не веришь?
- В воскресенье не занимаются делами, папа. Воскресенье - веселый день.
- А какой же день скучный?
Тони поднял свои глубокие серые глаза на отца, и у обоих в зрачках заискрился смех. Маркэнда снова охватило изумление: жизнь, которой дышит тело его сына, живее, чем все привычное в нем самом.
- По-моему, все дни веселые, - заявил Тони.
- Вот это правильно, - согласился отец.
Тони направился к двери.
- Ну, ты поскорее. Я подожду тебя с завтраком.
- Превосходно. А может быть, отложим прогулку до послеобеда?
- Ах, папа, никак не могу. После обеда я занят. Вечеринка у Питера.
- Ну вот, видишь. Двум занятым людям не так легко сговориться. А что, Марта тоже идет?
- Что ты, папа! Еще малышей звать! Будут только несколько мальчиков из нашего класса.
- Ну, иди пока. А пирожки будем есть вместе. - Маркэнд вскочил с постели.
Нежность и радостное изумление взрослого вызвали бессознательный отклик в ребенке.
- Вот это будет здорово! - Он подбежал к двери. Но тут же спохватился, как бы устыдившись своего порыва. И стремительно распахнутую дверь притворил за собой очень осторожно.
Значит, даже в Тони нет мостика от мира знакомых представлений к миру необычного? Несмотря на его любовь к мальчику, несмотря на возможность ласкать его и порой направлять, он никогда не сможет коснуться его существа. Маркэнд стал под теплый душ, мягко окутавший его тело, и продолжал думать. - Значит, в этом все дело? Оба мира взаимно исключают друг друга? В каждом исключено то, что есть в другом и что мне необходимо. - Он пустил холодную воду. - Какое-то наваждение. Разве я не вижу мальчика каждый день, разве не играю с ним по воскресеньям? - Но, несмотря на холодную воду, от которой его тело, дрожа, приходило в себя, по-прежнему он продолжал видеть в своем сыне что-то чуждое, непонятное... точно в далеком обиталище богов! - Мой сын. Только ради необычного стоит жить в мире знакомых вещей. Именно необычное мы любим. - Он стал думать о том времени, когда он впервые приехал в Нью-Йорк вместе со своим другом, Томом Реннардом. Том дразнил его и спорил с ним... и любил его за эти сумасбродные мысли. А сестра Тома заступалась за него и тоже любила его. Они поощряли детское в нем. Корнелия лишила себя жизни, а с Томом он вскоре разошелся. Сумасбродные идеи как будто выветрились, брак сделал его трезвее и уравновешеннее. Но вот уже около двух лет (да, примерно со времени слияния с ОТП), как старое тревожное чувство возвратилось к нему; к нему, человеку семейному и с положением в обществе. Тревожность необычного... свет необычного. Маркэнд вспоминает о лучах, которые недавно показывали на Электротехнической выставке в Мэдисон-сквер-гарден; икс-лучи, так они называются; когда они прошли сквозь его руку, стали видны кости. Это длилось всего мгновенье. Ему сказали после, что, если живую ткань подвергнуть длительному действию этих лучей, она будет разрушена. Луч чудесного изумления в минуты пробуждения по утрам... направленный на него самого, на Элен, на Тони... если действие его будет длиться изо дня в день - не разрушит ли он его жизнь?
Голый, он стоял перед трюмо, вытираясь широким мохнатым полотенцем, и смотрел на себя. Он позабыл, что собирался завтракать с Тони. День все сильнее обволакивал его каким-то неприятным чувством. - Может быть, я нездоров? - В желудке он ощущал непривычную тяжесть, Когда он поворачивался боком, у него торчал живот, когда он становился лицом к зеркалу, две складки обозначались повыше бедер. Его тело... оно вызывало в нем неприязнь. Его путь был слишком легким, оно только брало и брало; на это у него хватило умения. Оно было здоровым и чистым, когда он жил вместе со своим старым другом, Томом Реннардом. Теперь, вот уже много лет, он каждый день насыщает его пищей, прежде чем оно почувствует голод; и часто ночью насыщает его телом своей жены, прежде чем оно почувствует голод. Голодного нетерпения не хватало теперь его телу, а может быть, и его душе. Хорошо быть голодным. "В Америке нет голодных!" - слышит он хвастливый голос своего дяди. Есть море грязи, безобразия, нищеты... гниль, разложение, трущобы... Но голода нет. Ура! Быть может, голод был бы лучше. - Но я голоден. - Эта мысль его ударяет внезапно, точно ружейный залп. - Я голоден. - Он снова смотрит на свое большое тяжелеющее тело, смотрит на коротко подстриженные волосы, темной шапкой торчащие надо лбом, на серые глаза, которые он так любит у Тони. - Голоден? Чего ж я хочу?
Пока он ищет ответа, вопрос меркнет, необычное исчезает, он снова полностью в мире знакомых вещей. Только слово "голоден" остается... голоден... хочу есть... завтрак... Тонн! Маркэнд вспоминает о своем обещании; он надевает пижаму из голубого шелка, алый шлафрок, подарок Элен, и идет вниз, в столовую, завтракать со своими детьми.
Для Нью-Йорка 1913 года это был довольно оригинальный дои. Маркэнд купил его за год до рождения Топи, на деньги, полученные ими от отца Элен: старый, запущенный четырехэтажный особняк с кирпичным фасадом и высокой верандой из плитняка. По соседству находились еще несколько таких особняков, товарные склады, многоквартирные дома и два-три старомодных домика, в которых доживали свой век свидетели славного прошлого. Джадсон Дейндри, отец Элен, считал, что вся местность к востоку и к западу от парка несомненно имеет будущее. Элен до неузнаваемости изменила все в доме. Она снесла веранду и перестроила первый этаж по обычному американскому образцу. А так как улица представляла собой малопривлекательное зрелище, она перенесла кухню к фасаду; столовая, облицованная веселыми голландскими белыми и синими изразцами, теперь выходила окнами во двор, который она превратила в сад, где цветы и вьющиеся растения скрывали от глаз находившуюся за ним конюшню. Во втором этаже над кухней располагалась гостиная, а за ней - библиотека, которая была очень солнечной до тех пор, пока конюшню не снесли и не выстроили на ее месте десятиэтажный гараж. В третьем этаже расположены были спальни родителей и детей, на самом верху находилась большая комната для игр и помещение для прислуги. Характер всего квартала изменился. В нескольких домах, отдававшихся прежде внаем, поселились теперь сами владельцы; один из складов уступил место особняку с ливрейными лакеями. Но оба угловых салуна по-прежнему оставались открытыми, как и лавка в крайнем доме, владелец которой, приземистый ирландец по имени Берне, во всякую погоду сидел на стуле у своих дверей, готовый сцепиться с каждым, кто попадется под руку; Маркэнд любил проводить время в беседе с ним. Делом заправляла его дочь, бледная красавица, напоминавшая Маркэнду водяную лилию, вынутую из воды. Был у него и сын, верзила с испитым лицом, но его обязанности сводились к тому, чтобы служить своему отцу противником в спорах, когда не находилось лучшего.
Покупка дома оказалась удачным помещением денег: уже сейчас Маркэнд мог бы взять за него вдвое против того, что заплатил сам. Но была еще одна, тщательно скрываемая причина, побудившая его сделать эту покупку. Дом был расположен неподалеку от гостеприимных кварталов Динов и Дейндри, близко от Пятой и Мэдисон-авеню и от Центрального парка. Но также близко находился темный лабиринт, тянувшийся от Третьей авеню до реки. Сам не зная почему, Маркэнд хотел жить не слишком далеко от хмурых, холодных домов-клеток, от мертвенно-зеленых салунов, от темного и полного лишений мира измученных женщин и угрюмых мужчин, политических агитаторов, бандитов и пьяниц, - мира, который, казалось, был как-то сродни радостной нищете его детства, проведенного с матерью на убогой окраине коннектикутского городка. Дом его стоял на границе двух миров, и Маркэнд находил в этом некую сентиментальную прелесть. Плотью он жил в мире богатых, и ему нравилось сознавать, что духом он близок к другому миру. Это как-то возбуждало его, подобно глотку неразбавленного виски после привычного изысканного обеда. Летом, когда его семьи не было в городе, он часто обедал в третьеразрядных закусочных, в обществе ломовиков и женщин, пропахших потом. Он пил вино в салунах восточных переулков вместе со всяким сбродом, околачивавшимся у реки. (Впрочем, в особенно жаркие дни он предпочитал крышу "Астор" или "Клэрмонт" на Риверсайд-драйв.) Несколько раз по воскресеньям, в теплые осенние или весенние сумерки, гуляя с Тонн, он доходил до авеню А. И на вопрос мальчика, почему так скученно, так шумно и грязно живут там люди, он отвечал: "Они бедны". А когда мальчик, выяснив, что такое бедность, спрашивал, отчего она бывает, он говорил: "Это трудно объяснить. Христос учил, что бедные всегда с нами. Причина есть, наверное, но черт меня побери, если я ее знаю!.. Быть может, продолжал он размышления вслух, - они менее умны, чем мы... а может быть, и нет. Откуда мне знать, умнее ты вот этого мальчишки (пробежавшего мимо них в рваной рубашке и дырявых башмаках) или нет?.. И откуда мне знать, умнее я его папы или нет?.. Пожалуй, Тони, тут все дело в везенье". А что такое везенье, Тони, по-видимому, знал, хотя отец его не мог похвастать тем же.