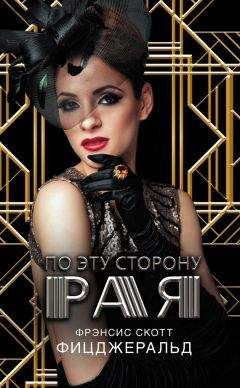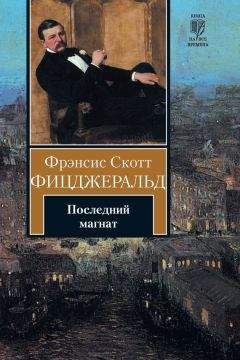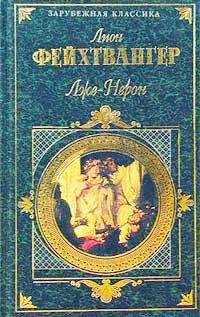Френсис Фицджеральд - Крушение
Остались лишь отдельные моменты, отдельные люди, не выводившие меня из равновесия. Как большинству выходцев со Среднего Запада, национальные симпатии и антипатии были мне чужды; правда, меня всегда тайно влекло к миловидным белокурым скандинавкам, каких я встречал в Сент-Поле: они сидели на крылечке у своих домиков, по своему положению не допускаемые в тогдашнее "Общество". Для легкого знакомства они были слишком хороши, но и занять свое место под солнцем еще не могли: они ведь совсем недавно приехали из деревни; и я помню, как огибал целые кварталы только затем, чтобы полюбоваться на секунду мелькнувшей сверкающей головкой девушки, которую мне не судьба было узнать. Я заговорил как столичный житель, а это не в моде. А веду я к тому, что в последнее время я просто не мог выносить ирландцев и англичан, политиков и безучастных к политике, виргинцев, негров (и светлых, и совсем черных), и Знаменитых Охотников, и еще продавцов в магазинах, и всех подряд комиссионеров, и всех писателей (писателей я избегал особенно упорно, потому что они способны доставлять нескончаемые неприятности, как никто другой), и представителей всех общественных слоев за то, что они представляют какой-то слой, и - в большинстве случаев - за то, что они просто к нему принадлежат.
Но мне нужна была какая-то опора, и я полюбил врачей и девочек-подростков лет по тринадцати, а также хорошо воспитанных подростков-мальчиков лет с восьми и старше. Лишь с этими немногочисленными категориями человечества я находил покой и счастье. Забыл добавить, что еще мне нравились старики - люди, которым за семьдесят, а иногда и шестидесятилетние, если вид у них был достаточно умудренный. Мне нравилось лицо Кэтрин Хэпберн на экране, что бы там ни говорили о ее кривлянье, а также лицо Мэрион Хопкинс и лица старых друзей - при том условии, что мы встречались не чаще чем раз в год и я помнил, какими они были прежде.
Голос не получившего свое сполна и озлобившегося, ведь так? Но запомните, дети, это и есть безошибочный признак крушения.
Некрасивая вышла картина. Разумеется - а как было этого избежать? - я вставил ее в раму, возил с места на место и показывал разным критикам. Была среди них одна дама, о которой только и можно сказать, что всякая жизнь по сравнению с ее жизнью казалась умиранием - даже в этот раз, когда она не столько утешала меня, сколько корила. И хотя мой рассказ закончен, да будет мне позволено в виде постскриптума привести наш разговор.
- Послушайте, - сказала она (в разговоре она часто пользуется словом "послушайте" - дело в том, что, говоря, она мыслит, на самом деле мыслит). Итак: - Послушайте, - сказала она, - ну что вы все проливаете над собой слезы? Постарайтесь себя убедить, что с вами все в порядке, а обвал произошел совсем в другом месте, в Большом каньоне к примеру.
- Нет, во мне, - ответил я, чувствуя себя героем.
- Послушайте! Весь мир - это то, что вы видите, то, что вы о нем думаете. Можете сделать его очень большим или совсем маленьким, как захотите. А вам вздумалось превращать себя в ничтожество. Да если бы я пережила крушение, со мной вместе провалился бы весь свет! Послушайте! Мир существует только потому, что вы его воспринимаете. Так почему не сказать, что обвал - в Большом каньоне?
- Малышка уже прочитала всего-всего Спинозу?
- Понятия не имею о вашем Спинозе. Но я знаю... - И дальше она принялась рассказывать о трудностях, с которыми сама столкнулась в прошлом, и рассказывала так, что они выглядели куда трагичнее, чем мои, но она-то не пала духом, сумела все вытерпеть и преодолеть.
Сказанное ею меня задело, но думаю я медленно, и кроме того, пока она говорила, мне пришло в голову, что из присущих человеку естественных свойств жизнелюбие прививается труднее всего. В те годы, когда энергия рождалась в тебе сама собой, ею хотелось поделиться, но оказалось, что чужое жизнелюбие никогда не "прививается". Либо оно есть, либо нет - точно так же, как здоровье, или честность, или карие глаза, или баритон. Я бы даже мог попросить у нее, чтобы она подарила мне кусочек своего жизнелюбия, аккуратно его запаковав и объяснив, как им пользоваться, но толку для меня от этого не было бы никакого - пусть я, забившись в уголок и изнывая от жалости к самому себе, ждал бы хоть целый месяц. И я мог только уйти от нее, неся себя осторожно, словно треснувшую тарелку, уйти в мир горечи, в котором я научился видеть свой дом, выстроенный из материалов, какие отыскались в этом старом мире, и, уходя, молча напомнить о себе:
"Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?" (От Матфея, 5, 13.)
Февраль 1936