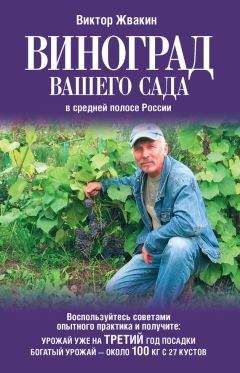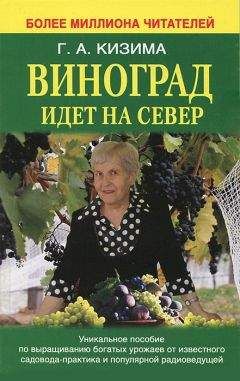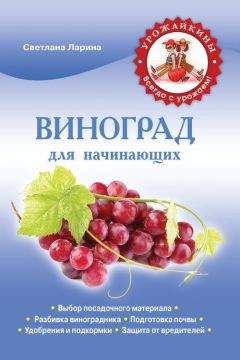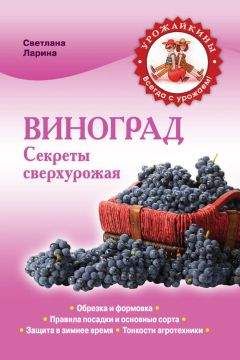Филипп Эриа - Золотая решетка
Агнесса отвернулась, но тут же услышала беседу соседей с другой стороны. Тут говорили о патрулях, о том, что появление на улице после комендантского часа грозит чуть ли не смертью, о том, что в некоторых округах Парижа людей заставляют по три дня сидеть дома и любоваться из окон пустынными улицами, о репрессиях в ответ на покушения, о приказах, которые появляются утром на стенках уличных уборных, и где двумя длинными столбцами напечатаны имена расстрелянных этой ночью заложников. У говорившего были впалые щеки, и, хотя в его рассказе не чувствовалось той страшной растерянности, что у рассказчицы, самый тон был тот же - какое-то сочетание скорбного упрека и гордости, что Агнессе уже не раз приходилось улавливать в разговоре с людьми из оккупированной зоны. Рассказчик сообщил, что десять дней тому назад в Париже были расстреляны в один день сто заложников и что Штюльпнагель обложил евреев, проживающих в оккупированной зоне, контрибуцией в один миллиард. Тут он заметил, что Агнесса прислушивается к беседе, и подмигнул своим собеседникам. Те поняли, наклонили к нему головы, и теперь рассказчика почти не было слышно. Агнесса поднялась с места, вышла. Дверь с оклеенными стеклами закрылась за ней, вновь вернула ее в кромешную тьму.
Бродя по вокзалу, Агнесса не находила уголка, где могла бы приткнуться. Вход в зал ожидания был воспрещен: помещение передали морской полиции. На часах у двери стояли солдаты морской пехоты в касках с ремнем под подбородком: псевдоармия под стать здешнему псевдозатемнению. Агнесса подумала, что отсюда можно было бы соединиться по телефону с Пор-Кро. Но тут же сообразила, что после семи часов вечера связь с островом допускалась лишь в экстренных случаях, к тому же было уже слишком поздно и ей не хотелось без особой нужды беспокоить милую Викторину, которой она доверила своего сына.
В конце концов ей удалось обнаружить рядом с багажным помещением темный уголок, где она и уселась на какой-то ящик.
Сюда пассажиры не заглядывали. Она сидела, не шевелясь, она мучительно обдумывала все, что пришлось услышать в буфете, ее мысль лихорадочно работала, хотелось что-то понять, представить себе воочию. Начиная с июня сорокового года, она, можно сказать, ни разу не ступала на землю материка, в Гиере бывала только по самым неотложным делам, а уж дальше ни шагу. К маленькому этому островку, где проживало всего тридцать обитателей, ее приковывали заботы о ребенке, а также хозяйственные заботы. То, что ей до сих пор приходилось слышать насчет условий жизни в оккупированной зоне, не позволяло сделать ясных выводов: столько ко всему примешивалось сплетен, неправдоподобных выдумок и явно подозрительных преувеличений! Видно, тетя Эмма в свое время не зря утверждала, что в этой дочери господ Буссарделей сидит не столько бес, сколько дух противоречия. И в самом деле, Агнесса предпочитала оставаться скептиком в современных условиях, скептиком во что бы то ни стало и из принципа; она старалась не слышать ежедневно распространявшихся слухов, независимо от того, кому они были на пользу. Это лучшее средство быть порядочным человеком, любила она повторять. И включала она только передачи швейцарского радио.
Сегодня получилось по-иному; но если сегодня она проявила внимание к тому, что говорили люди, встретившиеся ей случайно, то лишь потому, что это были сами очевидцы событий. Сидя в своем уголке, она почувствовала, что мерзнет, от холода начали гореть уши, сжимало виски. Она, как всегда, вышла с непокрытой головой и теперь, сняв кашемировый платок с шеи, сложила его на коленях по диагонали и повязала им голову. Подняв воротник, она вынула из сумочки зеркальце и убедилась, что тюрбан удался ей с первого раза. Впрочем, этот головной убор только подчеркнул ее здоровый цвет лица в сравнении с парижанкой, пожиравшей бутерброд, пропитанный маслом. Благодаря классическим, по ее мнению, даже чересчур классическим, чертам лица Агнесса в этом уборе сразу стала похожа на расиновскую Роксану, на "Одалиску" Энгра. Из уголка, где она устроилась, багажное отделение представлялось таким пустынным и беспросветно мрачным, что рядом с ним еле освещенная и почти безлюдная зала выглядела чуть ли не оживленной. Во всем окружающем чувствовалось уныние, тоска ожидания перед путешествием в никуда. В памяти Агнессы всплыла другая картина марсельского вокзала, сказочно расцвеченная бабушкиной фантазией, с его суетой и оживлением. В те времена, когда бабушка Буссардель еще могла говорить, она иной раз рассказывала о своем прибытии в Марсель во время свадебного путешествия. Она описывала то ошеломление и восторг, которые охватили ее еще на ступеньке вагона, когда ей впервые открылся этот город, залитый южным солнцем, по-восточному яркий и непривычный. За всю долгую жизнь у бабушки накопилось только два-три таких воспоминания, которыми она соглашалась поделиться и продолжала вспоминать до глубокой старости. Не удивительно, что этот рассказ врезался в память ее внучки Агнессы.
- Милое мое дитя, - начинала бабушка, - ты слушаешь меня? То, что представилось тогда моим глазам с земляной насыпи, показалось мне таким прекрасным, осветило радостью жизнь. Такая великолепная открылась нам панорама. У меня чуть голова не закружилась, и, помню, я оперлась на руку твоего деда. Ах! Твой дедушка! Ты его не знала... Он умер внезапно, когда ты только-только появилась на свет. Но ты должна всегда помнить о нем, слышишь! - повторяла старая мадам Буссардель, окидывая Агнессу испытующим взором, и при этом она каждый раз брала со стола пожелтевшую фотографию, которая всегда была у нее под рукой среди других фотографий, и протягивала внучке. Ну как? Нравится? В свое время твой дед считался красавцем мужчиной. Мы вышли из вокзала, он еле заметно взмахнул своей тросточкой, и тут же подкатил экипаж. Простой фиакр, открытый или, вернее, с верхом, украшенным кистями, ну, знаешь, как в Неаполе. "Трогай!" И мы покатили по улицам Марселя, объехали весь город. Наше свадебное путешествие началось. Мы отправились в Гиер Пальмовый. Было это еще при императоре. Мне тогда исполнилось шестнадцать лет.
Агнесса поднялась со своего импровизированного сиденья. Она покинула неосвещенное убежище и снова зашагала по асфальту перрона, которого не существовало в бабушкины времена, вернулась к действительности, погрузившись в тяжелую тьму оккупации. На поворотах она бросала взгляд в сторону доски, где отмечалось прибытие поездов, и убеждалась, что лионский поезд все еще запаздывает. Но мысли ее витали в прошлом, ей виделась бабуся, верховное и грозное божество, неизменно восседавшее в кресле спиной к парку Монсо, спиной к живой жизни. В представлении Агнессы родоначальница Буссарделей с этого своего места проследовала непосредственно в загробный мир; этот образ старшей в роду Буссарделей стал как бы символом всего рода, и на этом обрывались воспоминания о прошлом. Бабуся умерла тихо и мирно всего два года тому назад, незадолго до объявления войны, вскоре после драмы, которая стоила жизни Ксавье и привела овдовевшую Агнессу к разрыву с семьей. Агнесса так и не повидала больше бабушку, даже в гробу; сославшись на близость родов, она не поехала в Париж на похороны.
Наконец лионский поезд подошел к платформе. Агнесса поместилась у выхода рядом с контролером и без труда узнала новоприбывших по тому, как они внимательно оглядывались вокруг. Новые знакомцы последовали за ней. Едва они начали спускаться с лестницы Сен-Шарля, как в лицо всем четырем ударил ледяной порыв ветра и принудил остановиться на полпути, на средних ступеньках. Агнесса знала, что такое здешний ветер, и взяла под руку девушку и младшего из ее спутников, которого чуть было не сбило с ног. Крепкая, высокая, сохранившая еще спортивную форму благодаря здоровой жизни на мысе Байю, она заслоняла от ветра новоприбывших, чувствовала себя куда сильнее их. Когда они спустились с лестницы и вышли на бульвар Дюгомье, Агнесса объяснила им, что такого ветра, как в этом уголке Средиземноморья, нет нигде и что он уже не первый день гуляет по побережью.
- А я-то думал, что здесь погода мягче, чем в Лионе, - сказал один из юношей.
- Но все-таки грех жаловаться, - живо возразила Агнесса.- Если бы вы знали, какие холода стоят сейчас в Париже!
- А вы оттуда?
- Нет. Я живу в Пор-Кро круглый год. Моему сыну всего два года, и мне нельзя отлучаться надолго. Но я только что видела людей, приехавших прямо из Парижа. Во всяком случае, у нас нет обмороженных, как у них там.
Журналисты переглянулись.
За время ее отсутствия подвальное помещение кафе успело наполниться народом. Агнесса вновь увидела накрытый стол и возле него свою приятельницу - она была на посту, в своей роли распорядительницы рождественского ужина. Ужина, перенесенного с полуночи на десять часов вечера, что представляло по нынешним временам несомненные выгоды, поскольку можно было сэкономить и не обедать. Приятельница Агнессы была вдовой художника, вышедшего из группы "диких" и пользовавшегося известностью в эпоху между двух войн, в двадцатые годы, когда хозяйка этого вечера, называвшаяся ныне просто Мано, еще именовалась Манолой. Теперь она жила одна в городе Кань, стране художников.