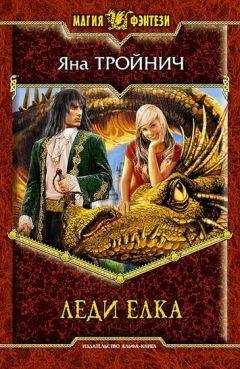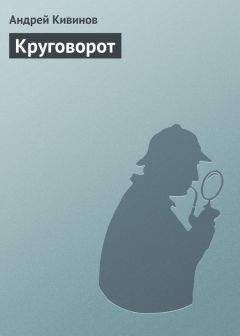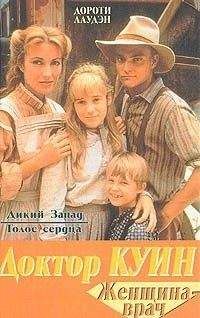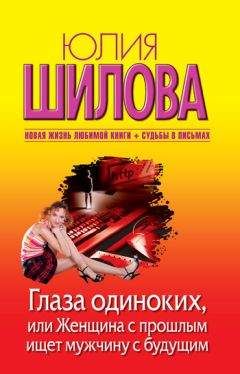Патрик Модиано - Ночная трава
При первой нашей встрече я записал ее имя как Дани, но она взяла у меня ручку и исправила на Данни, своей рукой, прямо у меня в блокноте. Позже я обнаружил, что так — Данни — называется стихотворение одного поэта, которого я тогда любил, — я даже видел пару раз, как он выходит из отеля «Таранн» на бульваре Сен-Жермен. Удивительно, какие бывают совпадения.
Она съезжала в воскресенье и попросила меня приехать помочь с вещами. Когда я подошел к американскому павильону, Данни уже ждала внизу с двумя дорожными сумками. Она сказала, что нашла недорогую комнату в отеле, где-то на Монпарнасе. Сумки оказались нетяжелыми, и я предложил дойти пешком.
Мы пошли по проспекту Мэн. Как и в то воскресенье много лет спустя, здесь не было ни души. Она сказала, что с комнатой ей помог друг из марокканского корпуса, тот самый Агхамури — она познакомила меня с ним еще в первую нашу встречу.
На перекрестке возле кладбища мы присели на скамейку. Данни порылась в сумках: проверить, все ли взяла. Потом двинулись дальше. Как она объяснила, у Агхамури была комната в том отеле, потому что хозяин — марокканец. Так почему тогда сам он живет в студенческом городке? Потому что он студент. К тому же у него в Париже есть и другое жилье. А она, что, тоже студентка? Агхамури помог записаться на факультет в Санзье[1]. Последние слова она произнесла нетвердо, едва шевеля губами. Хотя как-то раз я и правда ездил с ней до Санзье на метро, по прямой от Дюрок до Монж. Когда мы поднялись в город, накрапывал дождь, но нас это не испугало. Как и велел Агхамури, мы пошли по улице Монж и через какое-то время прибыли на место: перед нами была обширная площадь или, лучше сказать, пустырь, окруженный низкими полуразрушенными домами. Под ногами хлюпала глина и, так как уже темнело, приходилось особенно осторожно обходить лужи. На той стороне виднелось новое здание, очевидно, только недавно построенное — кое-где еще торчали леса… Агхамури ждал нас у входа, и свет из холла подсвечивал его со спины. Мне показалось, что взгляд его был спокойнее, чем обычно, будто само крыльцо корпуса Санзье придавало ему уверенности, несмотря на дождь и мрачный вид пустыря. Все это вспоминается вразброс, рывками, и то и дело гаснет, мерцая. Совсем другое — четкие записи в блокноте. Они нужны мне, чтоб заново склеить киноленту из разбежавшихся в стороны кадров. Но есть в блокноте и другие записи: они касаются исследования, которым я занимался тогда же, и предмет его уводит вглубь XIX, а то и XVIII столетия, как ни странно, они кажутся мне более понятными и прозрачными, хоть я и не жил во времена упомянутых в них событий. И даже имена тех персонажей — баронесса Бланш, Тристан Корбьер, Жанна Дюваль и еще Мари-Анн Леруа, казненная на гильотине 26 июля 1794 года в возрасте 22 лет, — звучат привычнее имен моих современников.
Уже вечерело, когда мы добрались тем воскресеньем до отеля «Юник». В холле Данни ждал Агхамури, в компании Дювельца и Жерара Марсиано. Тогда я и познакомился с ними. Они настояли, чтоб мы пошли смотреть сад, начинавшийся за отелем, где были расставлены столики с зонтиками от солнца. «Твои окна выходят на эту сторону», — сказал Агхамури, но Данни, казалось, было все равно. Дювельц. Марсиано. Я изо всех сил стараюсь воскресить их образы, нащупать что-то, что заставило бы их после стольких лет проявиться во всей полноте и жизни, чтоб я снова ощутил их присутствие. Даже не знаю… Запах? Дювельц всегда выглядел аккуратно: ровные светлые усы, галстук, серый костюм. Он пользовался одной и той же туалетной водой — много лет спустя я узнал ее название, когда нашел в гостиничном номере забытый кем-то флакон. «Pino Silvestre», «лесная сосна» по-итальянски. На пару секунд запах «Pino Silvestre» позволил мне увидеть со спины блондина, грузно шагавшего вниз по улице Монпарнас: это Дювельц. И — все исчезло. Так, проснувшись, мы часто не помним сна — остается лишь легкий отпечаток, который тает с приходом дня. Жерар Марсиано, напротив, был брюнетом с очень белой кожей, роста невысокого и с характерным взглядом: он смотрел как бы в глаза, но не видел собеседника. Лучше всех из них я знал Агхамури. Мы много раз сидели в кафе на площади Монж по вечерам, после его занятий в Санзье. И каждый раз мне казалось, что он хочет сообщить что-то важное — иначе зачем было звать меня сюда, подальше от остальных. Зимой по вечерам здесь было тихо, и мы засиживались одни в дальнем углу, будто в укрытии. Черный пудель смотрел на нас, положив морду на табурет, и моргал глазами. Бывает, отдельные моменты сопрягаются в моей памяти с какими-то строками, и после я подолгу ищу, кто их автор. Так, думая о вечернем кафе на площади Монж, я всегда вспоминаю строки: «Когтистые пуделя лапы царапали ночи гранит».
После мы шли пешком до Монпарнаса. По пути Агхамури рассказывал кое-что о себе, а это вообще случалось редко. Не так давно его выгнали из марокканского корпуса, но я так и не узнал, по политическим причинам или нет. Друзья устроили его в небольшой квартирке в Шестнадцатом округе, рядом с Домом радио, той круглой махиной. Но ему больше нравилось в отеле «Юник», где распорядитель, «приятель из Марокко», оставил ему комнату. Почему бы тогда не съехать с квартиры в Шестнадцатом округе? — «Там живет моя жена. Да, я женат». — Тут я почувствовал, что больше он не скажет ни слова. Впрочем, на расспросы он никогда не отвечал. То немногое, что он доверил мне — хотя доверием это назвать трудно, — говорилось по пути от площади Монж до Монпарнаса: мы подолгу шли молча, будто ходьба помогала ему собраться с духом, прежде чем что-то сказать.
Одно не давало мне покоя. Был ли он студентом на самом деле? Я как-то спросил, сколько ему лет, и он ответил: тридцать. Потом, кажется, пожалел, что сказал. Разве можно быть студентом в тридцать лет? Я не решился задать ему этот вопрос, боясь задеть. А Данни? Ей-то зачем хотелось в студентки? И неужели можно так вот запросто взять и записаться на этот факультет? Когда я смотрел на них обоих, в отеле «Юник», они совсем не походили на студентов, и мне порой казалось, что та огромная, недостроенная громада факультета у пустыря где-то рядом с Монж на самом деле стоит в другом городе, в другой стране, в другой жизни. Может, причиной тому Поль Шастанье, Дювельц, Марсиано и те люди за стойкой регистрации? Мне вечно было не по себе в здешних переулках. В самом деле, вид у них мрачноватый. Они вспоминаются мне всегда под дождем, хотя другие районы Парижа я представляю скорее залитыми солнцем. Мне кажется, после войны Монпарнас выцвел. «Ля Куполь» и «Ле Селект» еще сверкали редкими огнями на том конце бульвара, но квартал утратил свой дух. Душа и талант покинули здешние места.
Как-то в воскресенье под вечер я шел здесь с Данни — там, где кончается улица Одессы. На улице никого не было, начинался дождь. Прячась от него, мы забежали в кинотеатр «Монпарнас» и уселись в глубине зала. Мы попали в антракт, поэтому не знали, как называется фильм. В огромном полузаброшенном кинотеатре мне было так же неуютно, как и на здешних улицах. Пахло электричеством, как из отдушин метро. Среди зрителей попадались солдаты-отпускники — когда стемнеет, поезда повезут их в Бретань, Брест или, скажем, в Лорьян. По укромным углам ютились парочки, и, когда звук фильма затихал, были слышны их стоны, вздохи и все нарастающий скрип кресел… Я спросил Данни, надолго ли она решила остаться в этом районе. Нет. Ненадолго. Вообще, ей бы лучше снять комнату попросторнее, в Шестнадцатом округе. Там спокойно, и никто тебя не знает. И уж точно никто не найдет. «А тебе что, нужно скрываться?» — «Нет. Вовсе нет. А тебе как, нравится район?»
Ясно было, что она хочет уйти от неудобного вопроса. Что мне было отвечать? Нравится мне район или нет — это не имело значения. Мне теперь кажется, что я проживал тогда две жизни сразу: внутри одной, будничной, текла другая. Точнее, эта вторая, яркая, жизнь каким-то образом соединялась с повседневной, тусклой жизнью, придавая ей особое таинственное свечение, которого на самом деле в ней не было. Так бывает во сне, когда нам являются места, где мы бывали много лет назад: они вдруг принимают необычный вид, как та унылая улица Одессы или пахнущий метро кинотеатр.
В тот вечер я проводил ее до отеля «Юник». Там она встречалась с Агхамури. «Ты знакома с его женой?» — спросил я. Данни была очень удивлена, что я знаю о ее существовании. «Нет, — ответила она. — Они почти не видятся. Разошлись, или вроде того». То, что я так точно воспроизвел здесь ее слова, — не моя заслуга: они есть в блокноте, прямо под именем Агхамури. Ниже на той же странице идут записи, уже не имеющие никакого отношения ни к угрюмым кварталам Монпарнаса, ни к Данни, ни к Полю Шастанье и Агхамури. Они посвящены Тристану Корбьеру и еще Жанне Дюваль, любовнице Бодлера. Похоже, я узнал, где они жили, так как в блокноте написано: «Корбьер, ул. Фрошо, 10; Жанна Дюваль, ул. Соффруа, 17 — ок. 1878». А дальше — целые страницы исписаны заметками о них, из чего можно сделать вывод, что они оба играли в моей жизни гораздо более важную роль, чем те из моих современников, с кем я тогда пересекался.