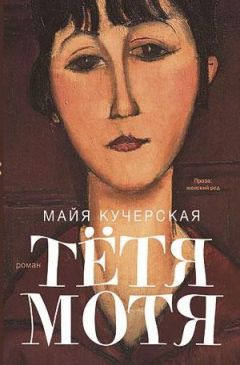Андрей Арев - Мотя
Нюра была девочкой тихой и странной, по воскресеньям ходила к городской тюрьме, где сидели немецкие пленные, которые всю неделю строили в городе красивые дома с фундаментом из природного камня, и враги СССР. В стену тюрьмы была вделана клетка, в которой сидел захваченный вместе с немцами белый петух Миша. Мишу собирались откормить и съесть, но петух специально почти ничего не ел и стал больше походить на кусок трески, чем на птицу, поэтому над клеткой была надпись «Зверь weißenHahn». Нюра приходила разговаривать с петухом, чтобы подтянуть себя по немецкому — петух говорил с четким берлинским акцентом. Еще Миша оставлял Нюре вишневые косточки, которые давали ему вместе с зерном — это были косточки от специальных вишен, выращенных в Бабьем Яру, — ими кормили перед казнью главных врагов СССР. Враги с удовольствием ели эти вишни, потому что от них кровь быстрее покидала обезглавленное тело и становилась очень красной, что не могло не нравиться зрителям. Нюра ела косточки, чтобы узнать мысли врагов и понять, как они могли ненавидеть СССР.
3
Сама Мотя даже не знала толком, как ее зовут. Мама Моти умерла родами: когда ее спросили, как назвать новорожденную, мама улыбнулась и ответила: Мотя.
«Хорошо–хршо. Хрш», — сказало мамино сердце, и остановилось. Папа называл Мотю «мое солнце», но он бывал дома редко, потому что все время пропадал в командировках, и воспитанием Моти занимались попеременно приходящие бабушки. Бабушка — папина мама называла Мотю Матильдой, говорила, что это имя переводится, как «опасная красота», и рассказывала о святой Матильде Рингельхаймской. Моте нравился перевод имени, но само имя напоминало о соседской таксе Тильде. Тильда была умной и доброй собакой, но Мотя, если и хотела быть каким–то животным, то никак не собакой, а тогда уж южным ктототамом, который живет в Амазонии, где тепло и мало людей.
Бабушка — мамина мама называла Мотю Матрёной, рассказывала о Матрёне Московской, которой слушался сам Сталин. Матрёной Мотя тоже быть не хотела, поэтому писала свое имя двумя арамейскими загогулинами — тау и мим. Арамейский она выучила по найденной в папином кабинете книге.
А с бабушками у нее не складывалось. Мамина мама постоянно приносила Моте просфоры, бормоча что–то про тело Христово, и пыталась запихнуть их Моте в рот — скушай, деточка. Маленькой Моте, смотревшей на распятье из глубины своего крохотного роста («госпоже Правой ноге…») телом Христовым представлялся почему–то только большой палец ноги, наверное, немытый и с толстым желтым ногтем, ее начинало мутить, и она убегала.
Папина мама вообще пугала Мотю. Она говорила, например: не будешь слушаться — превратишься в косулю, и таким же серым вьюжным днем в конце ноября за тобой приедут на УАЗике четыре пьяных клоуна, и ты будешь убегать, плача и сбивая ноги о наст, только хрен что у тебя получится; или: не будешь слушаться — придут китайцы и увезут тебя в свой специальный пластмассовый китай; или: не будешь слушаться — родишься лавровым деревом, и все будут бросать твои листья в суп.
Но и это было не самым страшным. Папина мама часто напевала: только крышеснег, и, кроме крышеснега, — никого.… Вот что было самым страшным. Мотя видела себя одну в доме, в сумерках… и вдруг — быстрый маховой промельк, дрожь вторженья, и — появляется крышеснег, одетый в белое, и ступающий мягкими неслышными лапами.
Да! Прошлогоднее унынье! Да! дела зимы иной. Иной, как вы не понимаете? Иной, нездешней, нечеловеческой зимы!
Белый снежный ужас проникал тогда в Мотю, она хватала на кухне самый большой нож и с бешено колотящимся сердцем караулила под дверью тихие неслышные шаги. Но страшных незнакомых шагов не было — просто приходила бабушка и забирала нож.
Зато Мотя любила папу. Папа, наверное, тоже любил Мотю.
— И это так страшно, — сказала как–то Мотя Нюре, — так страшно, когда тебя кто–то любит, ничего от тебя не хочет, а просто любит, а ты не знаешь об этом или, что еще хуже, знаешь, но тебе это не нужно и даже противно, ведь это такой ужас леденящий, такая бездна… И все эти ваши ангелы трубящие по сравнению с этой бездной — как гипсовые пионеры–горнисты, а геенна огненная — как котельная на улице Ленина.
— Я думаю, что по–настоящему могут любить только мертвые, — ответила Нюра, — например, меня любят мертвые мамонты, которые живут глубоко под землей. Когда долго идет дождь, то в их подземных норках становится очень печально и сыро. И они начинают плакать. А дождевые черви не выдерживают их плача, и выкидываются на поверхность, как киты на берег…
— Да, или вот, как мне Кока Смирнов рассказывал, живешь–живешь, любишь–любишь, и вдруг оказывается, что по–настоящему ты любил только кота Ваську, который умер, когда тебе было шесть лет, да и то все забылось, и не осталось от этой любви ничего, кроме, разве что, когда на игре в порнопсевдонимы ты сказал, что тебя бы звали Василий Ленин, и все ржали.
Кока Смирнов, одноклассник Моти и Нюры, круглолицый мальчик, вечно поправляющий очки, как–то сообщил Моте, что порнозвезды выбирают псевдонимы, используя для имени кличку первого домашнего питомца, а для фамилии — название улицы, на которой прошло детство. Мотя тогда еще подумала, что советские порнопсевдонимы были бы крайне забавными: Муся Куйбышева, Тихон Киров…
4
В декабре Моте и позвонил тот самый Кока Смирнов.
— Здравствуй, Мотя, — важно сказал Кока.
— Здравствуй, Кока, — ответила Мотя, и хихикнула. Она так живо представила толстенького Коку, поправляющего свои круглые очки, и ведь, верно же, прежде чем позвонить, он непременно репетировал минут сорок, потому что был очень стеснительным.
На том конце провода замолчали.
— Ну же, Кока, что ты хотел мне сообщить? Я слушаю, — Мотя улыбалась, и так вся лучилась хорошим настроением, что Кока почти перестал стесняться, и сообщил, что в городской музей приезжает выставка — Детская Янтарная Комната.
Мотя удивилась, а Кока ответил, что да, существует такая, и если знаменитую Янтарную Комнату так и не нашли, то Детскую Янтарную удалось спасти, потому что она же маленькая, и теперь президент Медведев возит ее по стране, чтобы показать детям. Еще обещали привезти Доспех цесаревича Алексея, его же кукольный театр Гиньоль, а следующей зимой — Детский Ледяной дом Анны Иоанновны. Доспех цесаревича Мотя уже видела, когда ездила к тёте в Златоуст, кукольный театр ее не интересовал, а до следующей зимы было далеко, поэтому не слышала, что там говорил Кока, а представила президента Медведева, которого Путин запер в Спасской башне, чтобы он держал руками стрелки курантов, дабы устранить бардак со Съеденным временем, который начался еще во времена СССР, когда шахтеры Кузбасса что–то там колдовали с календарем, чтобы приблизить Новый год. Медведев пытался спасти положение, меняя часовые пояса, но ничего не получилось. Тогда Спасскую башню обшили досками, будто для ремонта, а на самом деле там прикованный цепью к самым главным государственным часам Медведев сжимал стрелки курантов руками так, что из–под ногтей текла кровь. Говорят, когда становилось невмоготу, Медведев танцевал там под песню «Одинокий парень», он смотрел на часы, и напевал:
Oh, oh–oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh–oh I got a love that keeps me waiting
I'm a lonely boy
I'm a lonely boy
Oh, oh–oh I got a love that keeps me waiting
Она потом долго была самой модной на дискотеках, и все танцевали ее, как Медведев, поглядывая на часы….
— Мотя? Ты меня не слушаешь? — обиженно сказал Кока.
— Слушаю, Кокочка. Ты говорил о Детской Янтарной Комнате.
— Да, так вот. Я тут кое–что почитал и понял, что в этой комнате можно найти оч–чень интересную вещь…, — Кока выдержал паузу.
— Какую же?
— Детскую Либерею Ивана Грозного!
— То есть, ты хочешь сказать, что кроме детской янтарной комнаты существует еще и детская библиотека Ивана Грозного?
— Да! Ведь все делалось всегда в двух экземплярах — оригинал и уменьшенная детская копия, чтобы с детства готовить наследников к… в общем, готовить.
— Ахха. И что ты предлагаешь?
Кока ответил, что можно спрятаться в музее, и ночью поискать в Янтарной Комнате библиотеку. Особо никакой охраны не было — вечером, в половину пятого придет уборщица тетя Клава, а в пять музей уже будет закрыт, так что у них в распоряжении будет вечер и вся ночь, потому что из музея все равно не выйти. А утром можно улучить момент, пока никто не видит, и прикинуться ранними посетителями. Спрятаться, конечно же, лучше всего в самой Янтарной Комнате. Осталось только придумать причину не ночевать дома, но Кока сказал, что для него это не проблема, потому что у родителей опять это. Мотя знала, о чем говорит Кока — у его родителей было два состояния — запой и хождение в церковь. Правда, между этими двумя состояниями еще был период ремиссии, недели две–три, когда родители Коки были вполне себе родителями, заботливыми и внимательными. Мотя узнала об этом давно, еще в первом классе, когда Кока на уроке, посвященным семейным традициям, смущаясь, сказал, что у них в семье традиция — в хлам. Брови учительницы поползли вверх, и только потом до всех дошло, что картавящий Кока произнес: «в храм», имея в виду семейные походы в церковь, хотя и в своей логопедической оплошности был не так далек от истины. Семья после потери взрослыми постоянной работы жила случайными заработками и пенсией, получаемой на старшего сына–инвалида. В хлам — ремиссия — в храм.