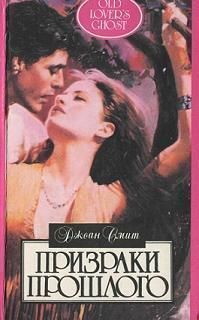Теодор Драйзер - Американская трагедия
— Дадим ей телеграмму, пусть приедет, — предложил Джефсон. — Мы добьемся, чтобы Оберуолцер отложил оглашение приговора до десятого, если скажем, что она приезжает. И вот что: сперва просто предложим ей приехать, а если она ответит, что не может, тогда подумаем насчет денег. Но уж наверно она достанет на дорогу, а может быть, кое-что и на апелляцию.
Итак, были составлены и отосланы телеграмма и письмо, извещавшее миссис Грифитс, что хотя Клайду пока ни слова еще об этом не сказано, однако его ликургские родственники отказали ему на будущее в какой-либо помощи. Кроме того, приговор будет объявлен не позднее десятого числа, и ради душевного спокойствия Клайда необходимо, чтобы при этом был кто-нибудь из близких, лучше всего мать. Речь шла также о том, что следует изыскать средства на покрытие расходов по апелляции или хотя бы представить какие-то гарантии на этот счет.
И вот миссис Грифитс на коленях молит бога помочь ей. Ныне он должен явить свое всемогущество, свое неизменное милосердие. Откуда-то должны прийти просветление и помощь, иначе как достать денег на дорогу, не говоря уже о расходах на апелляцию?
Так она молилась, стоя на коленях, и вдруг — внезапная мысль. Газеты изводят ее, добиваясь интервью. Репортеры преследуют ее на каждом шагу. Почему она не поехала на помощь сыну? Что она думает о том и что об этом? Так почему бы, сказала она себе, не пойти к редактору какой-нибудь большой газеты из тех, что вечно осаждают ее расспросами, и не рассказать ему, в какой крайности она оказалась? Пусть редактор поможет ей вовремя поехать к сыну, так, чтобы она могла быть рядом с ним в день, когда будет прочитан приговор, — и она, мать, обещает сама написать обо всем в газету. Ведь репортеров посылают повсюду, даже в суд, — она об этом читала. Почему же не послать ее, мать Клайда? Разве не могла бы она все рассказать и написать? Разве не написано ею многое множество проповедей?
И она встала — лишь для того, чтобы снова опуститься на колени.
— Ты ответил мне, господи! — воскликнула она.
Снова поднявшись, она достала свое старое коричневое пальто, ужасную коричневую шляпу с завязками — порождение каких-то особых представлений о наряде, подобающем лицу, посвятившему себя религиозной деятельности, — и тотчас отправилась в редакцию самой большой и влиятельной денверской газеты. Процесс ее сына был так широко известен, что ее сейчас же провели к главному редактору. Необычайная посетительница очень заинтересовала его, и он выслушал ее сочувственно и уважительно. Он понял, каково ее положение, и сообразил, что согласиться — в интересах газеты. Он вышел и через несколько минут вернулся. Итак, она зачислена корреспондентом на три недели, о дальнейшем ее известят особо. Ее расходы на дорогу в оба конца будут оплачены. Помощник, к которому он сейчас направит ее, разъяснит, как ей следует составлять и передавать корреспонденции. Он снабдит ее и некотором количеством наличных денег. Она может выехать уже сегодня вечером, если угодно: чем скорее, тем лучше. Для газеты желательно получить от нее перед отъездом несколько фотографий… Объясняя ей все это, редактор вдруг заметил, что глаза ее закрыты и голова откинута назад. Она благодарила бога, который так быстро внял ее молитве.
28
Бриджбург. В полночь восьмого декабря из почтового поезда на перрон вокзала выходит усталая, растерянная женщина. Резкий холод и яркие звезды. Одинокий дежурный в ответ на ее вопрос указывает ей путь к бриджбургскому отелю „Сентрал“: прямо по улице, начинающейся у вокзала, до первого поворота налево, и там еще два квартала. Заспанный ночной клерк тотчас отводит ей номер и, узнав, кто она, спешит объяснить, как пройти к окружной тюрьме. Но, пораздумав, она решает, что сейчас не время. Он, может быть, уже спит. И она ляжет спать, а завтра встанет чуть свет. Она телеграфировала ему несколько раз. Он знает, что она должна приехать.
Но уже в семь часов утра она на ногах, а в восемь с письмами, телеграммами, удостоверениями наготове, является в окружную тюрьму. И тюремное начальство, проверив ее документы, посылает предупредить Клайда о ее приезде. А он, подавленный, отчаявшийся, с радостью хватается за мысль об этой встрече, мысль, которая раньше приводила его в ужас. Потому что теперь многое изменилось. Страшная повесть была рассказана во всеуслышание. И благодаря разумной версии, разработанной для него Джефсоном, он теперь, пожалуй, сможет взглянуть матери в глаза и, не колеблясь, сказать, что это правда: у него не было намерения убивать Роберту, не по злому умыслу он дал ей утонуть. И вот он спешит в комнату для посетителей, где благодаря Слэку ему предоставлена возможность увидеться с матерью наедине.
Она встает навстречу, и он бросается к ней с немалой тревогой в смятенной своей душе и в то же время с уверенностью, что здесь он найдет опору, сострадание, а быть может, и помощь, не отравленную порицанием. И с усилием, словно что-то застряло в горле, у него вырывается:
— Ох, мама! Я так рад, что ты приехала!
Но она слишком взволнована, чтобы говорить, она только прижимает его к себе — своего мальчика, осужденного законом, кладет его голову себе на плечо, а сама устремляет взгляд к небу. Господь бог даровал ей эту милость. Быть может, он дарует и другие. Сын ее получит свободу — или хотя бы, назначено будет новое рассмотрение дела со справедливым разбором всех данных, говорящих в его пользу, чего ведь не было на этом суде. И так, не двигаясь, они стояли несколько мгновений.
Потом пошли рассказы о доме, о том, как ей удалось приехать, о ее обязанностях корреспондента: она должна проинтервьюировать его, а потом быть рядом с ним в час вынесения приговора… (Клайд вздрогнул при этих словах.) И дальше он услышал, что судьба его теперь целиком зависит от ее усилий. Ликургские Грифитсы из личных соображений решили больше не помогать ему. Но она, если только она сможет выступить перед людьми со справедливыми требованиями, — она еще может ему помочь. Ведь до сих пор господь не оставлял ее своей помощью. Но для того, чтобы она могла смело обратить мольбу к творцу и людям, нужно, чтобы он сейчас, здесь же, сказал ей всю правду — случайно или намеренно он ударил Роберту, невольно или умышленно дал ей погибнуть. Она читала его показания и его письма и отметила все уязвимые места в его рассказе о случившемся. Так правда или неправда то, что утверждал Мейсон?
Клайд, как и в былое время, почувствовал страх и стыд перед этой непоколебимой безукоризненной честностью, которую он никогда не мог понять до конца, но постарался заявить как можно тверже, хоть втайне и холодея, что все сказанное им под присягой — чистая правда. Он не совершал того, в чем его обвиняют. Не совершал! Но она, наблюдая за ним, с горечью отметила про себя, что в глазах у него что-то мелькнуло при этом — какая-то неуловимая тень.
В нем не чувствовалось той уверенности, того ясного и нерушимого сознания своей правоты, которых она ожидала, которые надеялась встретить. Нет, нет, во всей его повадке, в словах, которые он произносил, была какая-то едва заметная уклончивость, оттенок какой-то тревоги или сомнения, и при мысли об этом все замирало у нее внутри.
Ему не хватало твердости. Так, может быть, ее первые опасения были не напрасны, может быть, он и вправду замышлял это страшное дело, может быть, он и ударил девушку там, на глухом, пустынном озере? Кто знает! Как вынести жгучую и сокрушительную боль этой догадки! А ведь в показаниях своих он говорил совсем другое.
— Но — „Всевышний, ты не захочешь, чтобы мать усомнилась в сыне в самый страшный час своей и его жизни, чтобы она неверием своим подтвердила его смертный приговор! О нет, ты не потребуешь этого. Нет, нет, о агнец господень!“ Она отвернулась; она раздавила пятой чешуйчатую голову ехидны подозрения; для нее оно было не менее страшно, чем для Клайда сознание вины. — „О Авессалом, мой Авессалом! Полно, полно, мы не допустим такой мысли. Сам великий господь не взыщет с материнского сердца“. — Ведь вот он — он, ее сын, — стоя перед нею, заявляет, что не совершал этого злодеяния. Она должна верить, она поверит ему безоговорочно. Должна и верит, хотя бы бес сомнения и притаился в уголке ее жалкой души. Полно, полно, люди должны услышать, что думает обо всем этом она, мать. Вдвоем с сыном они найдут выход. Он должен веровать и молиться. Есть у него Библия? Читает он ее? И Клайд, которого один из тюремных надзирателей давно уже снабдил Библией, поспешил успокоить мать: да, есть, и он читает.
А теперь она должна идти, нужно повидать адвокатов, затем отправить первую корреспонденцию, а потом она придет опять. Не успевает она, однако, выйти на улицу, как ее окружают репортеры и засыпают вопросами о цели и смысле ее приезда. Верит ли она в невиновность сына? Считает ли, что процесс велся справедливо и беспристрастно? Почему она до сих пор не приезжала? И миссис Грифитс с обычной своей прямотой, серьезностью и материнской задушевностью отвечает на все вопросы, объясняет, почему приехала теперь и почему не приезжала раньше.