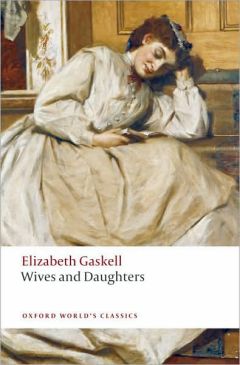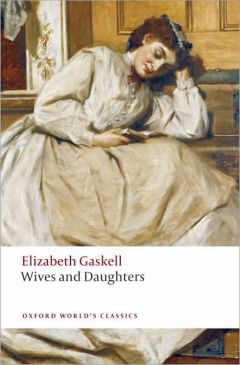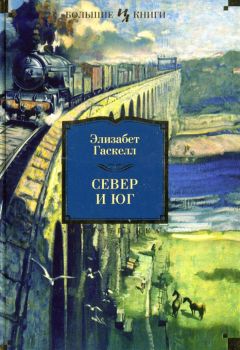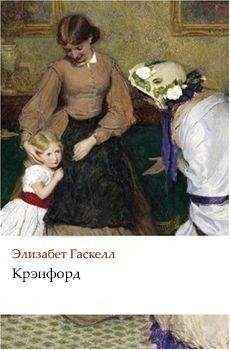Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
Когда же она вернулась к действительности, миссис Гибсон говорила:
– Честное слово, я никогда особенно не любила Роджера Хэмли. Но этот его знак внимания невольно напомнил мне об одном очаровательном молодом человеке, soupirant[157], как выражаются в таких случаях французы, – лейтенанте Харпере… Ты помнишь, я рассказывала тебе о нем, Молли?
– Пожалуй, да! – рассеянно отозвалась девушка.
– Тогда ты должна помнить, как он был привязан ко мне, когда я попала к миссис Данкомб, получив свое первое место, а ведь мне тогда едва исполнилось семнадцать. А когда вербовочной команде приказали переехать в другой город, бедный мистер Харпер пришел к классной комнате и стоял под окном почти целый час… И я знаю, что это он приказал оркестру сыграть «Девушку, которую я оставляю одну», когда на следующий день они маршем уходили из города. Бедный мистер Харпер! Это было еще до того, как я познакомилась с дорогим мистером Киркпатриком! Боже мой! Как часто в прежней жизни у меня сердце буквально кровью обливалось! Нет, я ничего не хочу сказать, дорогой папочка – очень достойный мужчина, и с ним я счастлива. Он меня избалует, если только я позволю ему. Правда, он не так богат, как мистер Гендерсон.
Последние слова миссис Гибсон стали квинтэссенцией ее нынешних скорбей. Выдав Синтию замуж и при этом приписывая себе львиную долю заслуги, словно этот брак состоялся исключительно благодаря ей, она чуточку завидовала Синтии в том, что та стала женой молодого, привлекательного, богатого и модного мужчины, к тому же проживающего в Лондоне. Однажды, когда ей нездоровилось и причины для недовольства показались ей куда важнее источников счастья, она принялась наивно изливать душу своему супругу.
– Какая жалость, – заявила она, – что я не родилась в другое время. Мне бы очень хотелось принадлежать к этому поколению.
– Иногда меня тоже охватывают подобные чувства, – согласился он. – В науке открываются новые горизонты, и мне бы хотелось, будь это возможно, дожить до того дня, когда они подтвердятся и станет понятно, к чему они приведут. Но, полагаю, моя дорогая, ваше желание помолодеть на двадцать или тридцать лет имеет под собой совсем иные резоны.
– Да, конечно. Но я не выражаю его столь неприятным образом, я всего лишь сказала, что хотела бы принадлежать к нынешнему поколению. Говоря по правде, я думала о Синтии. Отбросив в сторону тщеславие, могу сказать, что красотой я нисколько не уступала ей, – в молодости, я имею в виду. У меня не было ее черных ресниц, зато мой нос был прямее. Но вы только посмотрите, какая теперь между нами разница! Я вынуждена жить в маленьком провинциальном городке, где у меня всего трое слуг и даже нет своего выезда, а она со своей далеко не идеальной внешностью поселилась в Сассекс-Плейс и держит ливрейного слугу, карету и все остальное, чего только душа пожелает. Но правда заключается в том, что в нынешнем поколении имеется гораздо больше состоятельных молодых людей, чем в годы моей молодости.
– Ого! Вот, значит, о чем вы сожалеете, дорогая моя. То есть будь вы сейчас молоды, то могли бы выйти замуж за кого-нибудь вроде Уолтера?
– Да! – сказала она. – Думаю, что имела в виду именно это. Разумеется, я бы хотела, чтобы им оказались вы. Я всегда думала, что, стань вы стряпчим, то преуспели бы куда больше, да и жили бы в Лондоне. По-моему, Синтии все равно, где жить, но он пришел к ней сам.
– Кто пришел – Лондон?
– Ах, вам бы все шутить. Вы бы наверняка сумели очаровать присяжных. Вот, кстати, я не думаю, что Уолтер когда-либо сможет сравниться с вами умом. Тем не менее он может позволить себе свозить Синтию в Париж, и за границу, и вообще куда угодно. Мне же остается лишь надеяться, что подобные роскошества не испортят Синтию. Минула уже неделя, как мы получили от нее последнее письмо, а ведь я специально просила ее описать мне моду нынешней осени, прежде чем покупать себе новую шляпку. Но богатство – ловушка для души.
– Радуйтесь тогда хотя бы тому, что избежали искушения, дорогая моя.
– А чему здесь радоваться? Всем нравится поддаваться искушению. Да и, в конце концов, перед ним всегда можно устоять, было бы желание.
– А мне представляется, что это не так-то легко, – заметил ее супруг.
– Вот ваше лекарство, мама, – сказала Молли, входя в комнату с письмом в руке. – Это от Синтии.
– Ах ты, моя дорогая добрая вестница! Помнится, в «Вопросах» Мангнелл[158] была такая богиня, которая занималась именно этим. Письмо отправлено из Кале. Они возвращаются домой! Она купила мне шаль и шляпку! Дорогая моя доченька! Всегда в первую очередь думает о других, а потом уже о себе. И богатство не может испортить ее. От медового месяца у них осталось еще две недели! Их дом еще не совсем готов, и потому они едут сюда. Так что теперь, мистер Гибсон, мы обязательно должны прибрести новый обеденный сервиз у Уоттса, о котором я так давно мечтаю! Синтия называет этот дом «своим». Я уверена, что он действительно стал для нее родным, бедненькая моя! Сомневаюсь, что в целом свете найдется другой такой мужчина, который обращался бы с приемной дочерью так, как наш дорогой папочка! Да, Молли, а тебе непременно понадобится новое платье.
– Полноте! Не забывайте, что я принадлежу к последнему поколению, – заявил мистер Гибсон.
– А Синтия даже не заметит, что на мне надето, – сообщила Молли, радуясь тому, что вновь увидит подругу.
– Да! Зато Уолтер заметит. У него глаз наметан на платья, и я думаю, что стану достойным соперником дорогому папочке. Если он – хороший отчим, то я – добрая мачеха, и мне будет невыносимо видеть мою Молли в нарядах не первой свежести, выглядящей далеко не лучшим образом. Мне тоже нужно новое платье. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы выглядели так, словно нам больше нечего надеть, кроме того, в чем мы были на свадьбе!
Но Молли решительно воспротивилась новому платью для себя, заявив, что если уж Синтия и Уолтер будут часто наезжать к ним, то пусть они видят их такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Когда мистер Гибсон вышел из комнаты, миссис Гибсон мягко упрекнула Молли за ее упрямство.
– Ты должна была дать мне возможность уговорить папочку купить тебе новое платье, Молли. Ты ведь знаешь, в какой восторг привел меня тот узорчатый атлас, который мы давеча видели у Брауна. А теперь, разумеется, я не могу показаться эгоисткой, купив себе новое платье, а тебя оставив ни с чем. Ты должна научиться понимать желания других людей. Хотя в целом ты славная и милая девушка, и мне хочется лишь… Словом, я знаю, чего мне хочется, вот только дорогой папочка не желает рассуждать на эту тему. А теперь укрой меня хорошенько и дай мне поспать. Пусть мне приснится моя дорогая Синтия и моя новая шаль!
Послесловие (от редактора журнала «Корнхилл мэгэзин»)
На этом роман обрывается, так и оставшись незаконченным. То, что должно было стать вершиной всей жизни, превратилось в посмертный памятник. Еще несколько дней, и перед нами высилась бы триумфальная арка, увенчанная лавровыми венками и праздничными цветами: теперь же она превратилась в колонну совсем другого сорта – одну из тех, что печально стоят полуразрушенными на церковном дворе.
Но если работа остается незаконченной, то добавить к ней можно немногое, и это немногое представляется нам совершенно определенным. Мы знаем, что Роджер Хэмли женится на Молли, и это волнует нас больше всего. Собственно говоря, больше добавить действительно нечего. Останься автор в живых, она бы тотчас отправила своего героя в Африку; те же места Африки, что представляют интерес для ученых мужей, находятся очень далеко от поместья Хэмли, так что выбирать между «далеко» во времени и пространстве не приходится. Сколько в сутках часов, если вы оказались один-одинешенек в Богом забытом месте, за тысячу миль от счастья, которое могло бы быть вашим, будь вы рядом, чтобы взять его? Сколько же их, если от истоков Топинамбо ваше сердце летит на крыльях любви, словно почтовый голубь, дабы припасть к единственному источнику вашего будущего счастья, и столько же раз возвращается обратно с нераспечатанным посланием? Много больше, нежели указано в календаре. Это обнаружил и Роджер. Дни складывались в недели, которые отделяли его от той поры, когда Молли вручила ему маленький цветочек, и в месяцы, прошедшие с того момента, когда он разлучился с Синтией, в коей начал сомневаться задолго до того, как понял наверняка, что она недостойна его надежд. И если таковыми были его дни, то как же медленно, должно быть, тянулись для него недели и месяцы в этих дальних и уединенных краях! Для него они были равнозначны годам оседлой домашней жизни, когда на досуге можно было приглядывать за тем, чтобы никто не ухаживал за Молли. Результатом стало то, что задолго до окончания срока его контракта все, чем была для него Синтия, утратило для него всякую ценность, тогда как то, чем была и могла стать для него Молли, целиком заполнило его душу и сердце.