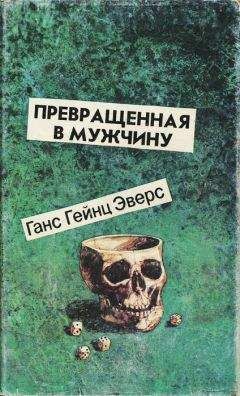Джордж Оруэлл - Да здравствует фикус!
— Так, и еще две?
— Думаю, самоубийство и католичество.
Атеист Равелстон потрясенно хохотнул:
— Религия? Это, по-вашему, альтернатива?
— А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает.
— Нет, подлинных интеллигентов никогда. Впрочем, вот Элиот, конечно… — не закончил Равелстон.
— И, помяните мое слово, туда потекут. Укроются под крылышком матушки церкви. Слегка тухлятинкой несет, зато тепло, не страшно.
Равелстон по привычке потер переносицу.
— Мне кажется, это как раз форма самоубийства.
— Близко к тому. Как и социализм. И то и другое — от отчаяния. Но самоубиваться не по мне, чересчур уж смиренно и покорно. Не желаю просто так уступать свою земную долю, хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов.
Равелстон улыбнулся:
— Кто же ваши враги?
— Любой с доходом больше пятисот в год.
Упала неловкая тишина. Чистый доход Равелстона составлял примерно две тысячи. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки. Дабы рассеять гнетущую паузу, Равелстон, собрав волю в кулак, залпом проглотил две трети пойла, что вполне могло сойти за выпитую порцию.
— Еще по одной? — дружелюбно предложил он. — Пора, кажется, повторить!
Гордон допил до капли и отдал стакан Равелстону. Вот теперь можно позволить и ему заплатить, честь не пострадает. Равелстон, опустив голову, пошел за новой выпивкой. Народ опять с любопытством стал следить; прислонившиеся к стойке возле своих нетронутых кружек работяги глазели молча и нагло. Здешнего пива, понял Равелстон, ему больше не проглотить.
— Нельзя ли два двойных виски? — проговорил он, словно извиняясь.
Буфетчица не шелохнулась, через секунду бросила:
— Чего?
— Пожалуйста, нельзя ли два двойных виски?
— Нету тут виски, спирт не держим. Пиво тут.
Работяги ухмыльнулись в усы («Порядка не знает, фраер гребаный! Ишь ты, в пабе виски свой хренов спрашивать!»). Нежное лицо Равелстона зарумянилось. До сих пор он не знал, что дешевым пабам не по средствам лицензия на крепкие напитки.
— Что ж, можно тогда пару бутылок бархатного?
Но бутылок здесь тоже не держали. Пришлось удовлетвориться четырьмя стаканами бархатного из бочки. Гордон, смакуя, отпил, а потом — еще. От принятого на голодный желудок и более хмельного, чем привычный портер, «баса» в голове зашумело. Потянуло философствовать и плакаться. Он, конечно, твердо решил не заикаться о своей бедности, однако же какого черта?
— Все это, что мы с вами говорили, все это блядство! — заявил он.
— Что именно?
— Да весь этот социализм-капитализм, современное положение и прочая мутотень. На фиг мне современное положение? Да хоть вся Англия кроме меня с голоду будет пухнуть, мне наплевать!
— Вы не преувеличиваете?
— Нет. Мнения отражают лишь наши чувства. А чувства наши от того, сколько в кармане. Вот я брожу, и вижу мертвый город и смерть культуры, и мечтаю, чтоб это рухнуло в тартарары, а почему? Зарплата два фунта в неделю, когда страстно хотел бы пять.
Опять услышав косвенный намек на его барство, Равелстон принялся медленно постукивать указательным пальцем по переносице.
— В определенной мере вы, пожалуй, правы. Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики.
— Да вы вот все по Марксу! Сами-то на себе не пробовали. Что тяготы, хрен с ним, с этими тяготами, неудобствами! Такой становишься забитой жалкой тварью; неделями напролет один — товарищей-то без гроша не заведешь. Писателем себя считаешь, но ни строчки. Тебя просто сливает, как дерьмо в унитаз. Булькаешь где-то во тьме, в канализационных трубах под культурой…
И пошел, и пошел. Это уж непременно начиналось в их интеллектуальных спорах. Плебейская расхристанность, ужасно смущавшая Равелстона, но неодолимо овладевавшая Гордоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь излиться, а Равелстон был тем единственным, кто понимал. И бедность, как всякий гнойник, требуется время от времени вскрывать. Гордон начал описывать детали житья на Виллоубед-роуд: душную капустную вонь, столовые флакончики с гущей присохших ко дну специй, отвратная еда, чащоба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клозете на нижнем этаже. Равелстон, горько и виновато потупившись, не отрывал взгляда от кривоватого стакана. Грудь ему жег позорно обличавший правый внутренний карман, где рядом с толстой зеленой чековой книжкой лежало немного наличных: восемь фунтов, десятка два шиллингов. Ужасны эти подробности быта! И Гордон только на подступах к бедности, а что же подлинная нищета? Как они выживают, безработные Мидлсборо, по семеро в комнатушке, на двадцать пять шиллингов в неделю? Когда одним приходится так туго, как же иные могут безмятежно разгуливать, имея при себе пачки фунтов и чековые книжки?
— Проклятье! — сокрушенно бормотал Равелстон. — Проклятье! — И все придумывал, под каким же предлогом, не обижая, убедить Гордона взять у него десятку.
Выпив еще пару стаканов, которые вновь заказал Равелстон, они покинули паб. Наступило время прощаться, встречи их всегда длились час-другой, не более. Свидания с богатыми, как посещения вельможных лиц, должны быть краткими. Темнело безлунное и беззвездное небо, дул влажный ветер. Ночь, пиво и жиденький свет фонарей наполнили Гордона мрачной ясностью — никому из богачей, даже таким приличным, как Равелстон, объяснить гнусность нищеты абсолютно невозможно. По этой самой причине сделалось необычайно важным тут же объяснить.
— Вы помните «Рассказ законника» у Чосера? — вдруг спросил он.
— Нет, что-то не припомню. О чем это?
— Я сам забыл, помню лишь первые строфы, где про бедность. Насчет прав каждого пнуть тебя! Насчет желания тебя пнуть! Нищета вызывает ненависть, и тебя оскорбляют просто из удовольствия оскорбить безнаказанно.
— О нет, ну что вы! — болезненно охнул Равелстон. — Нет, люди все-таки не столь жестоки.
— А! Вы не знаете, что они вытворяют!
Принять, что «люди все-таки не столь жестоки», Гордон никак не хотел. В мысли о сволочах, только и норовящих поглумиться над несчастными бедолагами, была какая-то странная, мучительная радость. Подтверждался собственный взгляд на жизнь. И внезапно, сам ужасаясь, что не может остановиться, Гордон рассказал глубоко ранивший и унизивший его недавний эпизод с приемом у Доринга. Подробно и бесстыдно раскатился целой историей. Равелстон был поражен. Он никак не мог взять в толк, отчего Гордон кипятится. Из-за отмены какой-то дрянной чайно-литературной вечеринки? Абсурд! Да он бы, и озолоти его, не пошел на такое сборище. Подобно всем состоятельным людям, Равелстон гораздо чаще стремился избежать общества, нежели искать его.
— Ну право же, — попытался он успокоить Гордона, — не стоит так легко обижаться. Событие ведь, согласитесь, ничтожное?
— Само по себе да, но отношение! Эти снобы, если монет у тебя мало, запросто могут плюнуть тебе в лицо.
— Но почему бы не предположить, что здесь имело место какое-то досадное недоразумение? Почему непременно плевок?
— «И если беден ты, злоба и поношение тебе от брата твоего!» — возгласил Гордон, подражая библейским текстам.
Почтительный даже к мнениям давно почивших, Равелстон потер бровь.
— Это из Чосера? Тогда, боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас, ни в коей мере.
— Презирают! И совершенно правы — я противен! Как в этой чертовой рекламе мятных пастилок — «Он снова в одиночестве? Его успеху мешает дурной запах изо рта!». Безденежье такой же дурной запах.
Равелстон вздохнул; несомненно, Гордон все извращает. Они продолжали идти и говорить, Гордон неистово, Равелстон беспомощно протестуя. Сколь бы дико ни преувеличивал поэт, возражать ему было затруднительно. Как возражать? Как богатому дискутировать о бедности с настоящим бедняком?
— А женщины что, если ты с пустым карманом? — развивал тему Гордон. — Женщины — это те еще штучки!
Равелстон довольно уныло кивал, хотя в последнем замечании, напомнившем о его подруге Хэрмион Слейтер, для него мелькнуло наконец нечто разумное. Роман их продолжался уже два года, но с женитьбой они не торопились. «Столько возни!», — лениво морщилась Хэрмион. Она, разумеется, была богата, то есть из состоятельной семьи. Вспомнились ее плечи, сильные, гладкие и свежие, благодаря которым она, снимая платье, казалась выныривающей из волн русалкой; вспомнились ее кожа и волосы, ласкавшие каким-то сонным теплом, подобно пшеничному полю под солнцем. Разговоры о социализме вызывали у нее зевоту. Отказываясь даже заглянуть в тексты «Антихриста», она отмахивалась: «Не хочу, ненавижу твоих угнетенных — от них пахнет». И Равелстон обожал ее.
— Да, с женщинами сложновато, — признал он.