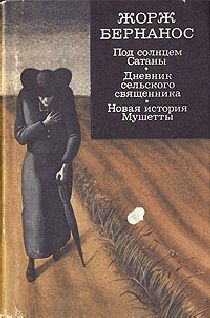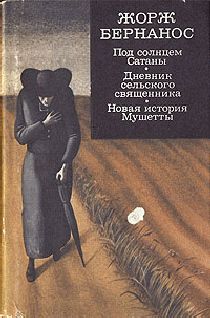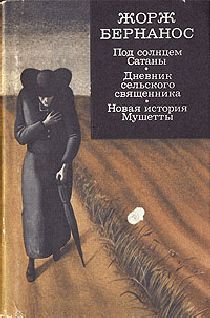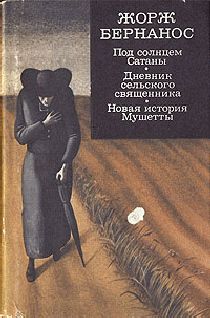Жорж Бернанос - Дневник сельского священника
К чему же сводится тогда покаяние? Оно еле затрагивает поверхность совести. Не смею сказать, что внутри она разлагается, скорее - каменеет.
Кошмарная ночь. Едва я закрывал глаза, к сердцу подступала тоска. Я не нахожу, к сожалению, другого слова, чтобы обозначить эту слабость, которой нет имени, подлинное кровотечение души. Я внезапно пробуждался с воплем в ушах - и опять-таки, то ли это слово? Нет, конечно.
Как только я преодолевал сонную одурь, как только мысль моя прояснялась, сразу возвращалось спокойствие. Умение держать себя в руках, которое я выработал, чтобы не распускать свои нервы, оказывается, гораздо сильнее, чем я предполагал. После смертельной ночной муки я черпаю утешение в этой мысли, ибо одному Богу ведома вся мера моих усилий, почти безотчетных, следовательно, не дающих никакого удовлетворения самолюбию.
Как плохо мы разбираемся в подлинной сути человеческой жизни! Нашей собственно. Судить о нас по тому, что мы именуем своими поступками, быть может, столь же тщетно, как судить о нас по нашим снам. Спаситель наш в его неизреченной справедливости избирает что-то в этой темной куче, и то, что он возносит как реликвию пред очи Отца небесного, вдруг расцветает, озаряется ярче солнца.
Что с того. Сегодня утром я был так измучен, что, кажется, отдал бы все на свете за человеческое слово сочувствия, ласки. Я подумал, не сбегать ли в Торси. Но в одиннадцать должны были прийти дети на урок закона божьего. Даже на велосипеде я не успел бы вернуться вовремя.
Мой лучший ученик - Сильвестер Галюше, мальчик не слишком опрятный (его мама умерла, и он воспитывается у старухи бабушки, которая попивает), но такой поразительной красоты, что при взгляде на него невольно возникает почти душераздирающее ощущение невинности - невинности до грехопадения, невинной чистоты чистого животного. Когда я раздавал награды за успехи, он зашел в ризницу за своей картинкой, и мне почудилась в спокойных внимательных глазах этого мальчика та жалость, которой я так нестерпимо жаждал. Я обнял его и разрыдался, опустив голову ему на плечо, самым глупым образом.
Первое официальное заседание нашего "Кружка самообразования". Я думал поручить председательство Сюльпису Митонне, но товарищи как будто несколько чуждаются его. Я, естественно, не счел нужным настаивать.
Мы, впрочем, только уточнили некоторые пункты нашей программы, поневоле весьма скромной, как позволяют наши ресурсы. Бедным ребятам явно не хватает воображения, увлеченности. Англебер Денизан признался, что они боятся, их "подымут на смех". У меня впечатление, что они и пришли-то ко мне только от нечего делать, от скуки, - поглядеть...
Встретил на Деврской дороге г-на торсийского кюре. Он подвез меня до дому на своей машине и даже любезно согласился отведать моего пресловутого бордо.
- Оно вам нравится? - спросил он меня.
Я ответил, что сам довольствуюсь дешевым вином, которое покупаю в бакалейной лавке "Четырех лип". Это его, кажется, успокоило.
У меня было четкое ощущение, что у него на уме есть какая-то мысль, но он уже принял решение ее не высказывать. Он слушал меня с рассеянным видом, меж тем как в его взгляде читался невольный вопрос, на который я не мог ответить, поскольку он отказывался его сформулировать. Как обычно, в тех случаях, когда я робею, я нес что-то невпопад. Бывает молчание, которое тебя притягивает, завораживает, так что хочется бросить в него что-нибудь первое попавшееся, любые слова...
- Странный ты тип, - сказал он мне наконец. - Второго такого простака нет во всей епархии, уж точно! И при этом ты вкалываешь как вол, не жалеешь сил. Должно быть, у монсеньера и правда туго со священниками, если он отдал приход в такие руки! К счастью, приход не так-то легко пошатнуть! Не то бы ты наколол тут дров.
Я чувствовал, что из жалости ко мне он обратил в шутку суждение, глубоко продуманное, прочувствованное. Он прочел эту мысль в моих глазах.
- Я мог бы засыпать тебя советами, но стоит ли? Когда я преподавал математику в Сент-Омерском коллеже, среди моих учеников были поразительные ребята - самые сложные задачи им удавалось решать наперекор общепринятым правилам, так, благодаря собственной смекалке. И к тому же, мой милый, ты ведь не в моем подчинении, делай, как знаешь, покажи, на что способен. Я не вправе вводить в заблуждение твое начальство. Свою систему я объясню тебе когда-нибудь позднее.
- Какую систему?
Он уклонился от прямого ответа.
- Видишь ли, церковное начальство право, рекомендуя нам соблюдать осторожность. Я и сам осторожен, за неимением лучшего. Я таков по природе. Нет ничего глупее взбалмошного священника, который пускается на безрассудные затеи, просто так, потому что в голову взбрело. Но все же пути наши - не пути мирские! Истину нельзя предлагать людям, как страховой полис или слабительное. Жизнь есть Жизнь. Истина господня это - Жизнь. Мы вроде бы несем ее людям, но на самом деле это она несет нас, мой мальчик.
- В чем моя ошибка? - сказал я. (Голос мой пресекался, мне пришлось дважды повторить свой вопрос.)
- Ты слишком суетишься - как шмель в бутылке. Но ты, мне кажется, владеешь даром молитвы.
Я испугался, что он сейчас посоветует мне отправиться в Солем, постричься в монахи. И он опять догадался, о чем я подумал (это, впрочем, вероятно, не слишком трудно).
- Монахи похитрей нас, а у тебя практического ума ни на грош, все твои пресловутые прожекты ничего не стоят. Что касается знания людей, то не стоит и говорить. Ничтожного графчика ты принимаешь за сеньора, мальчишек, которых учишь закону божьему, за поэтов, вроде тебя самого, а своего благочинного за социалиста. Короче, в глазах этого совершенно нового прихода ты выглядишь более чем нелепо. Ты уж меня извини, но ты напоминаешь мне тех лопоухих молодых мужей, которые тешат себя мыслью, что "изучают свою жену", тогда как она с первого взгляда уже знает своего супруга вдоль и поперек.
- Значит?.. (Я до того смешался, что едва мог говорить.)
- Значит?.. Значит, гни свою линию, что я могу тебе еще сказать! Самолюбия ты лишен начисто, а судить о твоих начинаниях заранее трудно, потому что ты в них вкладываешь всего себя, отдаешься до конца. Нет спору, люди правы, когда действуют осмотрительно. Вспомни слова Рюисброка Восхитительного, фламандца, как и я: "Даже если ты вознесся мыслями к богу, но как раз в этот момент больной попросил чашку бульона, спустись с седьмого неба и подай ему необходимое". Наставление доброе, что и говорить, но не следует злоупотреблять им, оправдывая свою лень. Ибо с возрастом, опытом, разочарованиями приходит нечеловеческая лень. Ах! Старые священники твердокаменны! Нет ничего неосторожней осторожности, если она исподволь готовит нас к тому, чтобы обойтись без Бога. Иногда старые священники поистине ужасны.
Я передаю его слова, как могу, скорее не слишком точно. Я едва слышал их. Но о стольком догадывался! У меня нет веры в себя, но моя добрая воля так велика! И мне всегда поэтому кажется, что она бросается в глаза, что меня будут судить по намерениям. Какое безумие! Я считал, что еще только стою на пороге этого мирка, а на самом деле уже углубился в него совсем один, - и выход захлопнулся за моей спиной, никакого отступления. Я не знал своего прихода, а он притворялся, что незнаком со мной. Но представление, которое он обо мне составил, было уже слишком прочным, слишком отчетливым. Отныне только ценой гигантских усилий я смогу что-либо изменить.
Господин торсийский кюре прочел на моем дурацком лице ужас и, конечно, понял, что напрасно даже пытаться успокоить меня сейчас. Он умолк. Я заставил себя улыбнуться. Да, думаю, я улыбнулся. Это было трудно.
Плохая ночь. В три часа утра я взял свой фонарь и пошел в церковь. Ключ от боковой дверцы я найти не смог, пришлось открыть большие врата. Скрежет замка отдался под сводами чудовищно громко.
Я уснул на своей скамье, зажав голову руками, да так крепко, что разбудил меня только дождь на заре. Вода проникла внутрь через разбитый витраж. Выходя с кладбища, я столкнулся с Арсеном Мироном, лицо его я различал неясно, но в тоне, которым он со мной поздоровался, звучала насмешка. Должно быть, я с моими припухшими от сна глазами и вымокшей сутаной выглядел достаточно нелепо.
Все время борюсь с искушением сбегать в Торси. Дурацкая потребность игрока, который отлично знает, что проиграл, но стремится еще и еще раз об этом услышать. К тому же я в том нервном состоянии, когда только и способен, что запутаться в напрасных извинениях. Зачем говорить о прошлом? Для меня важно лишь будущее, а сейчас я еще не чувствую себя в силах посмотреть ему в лицо.
Господин торсийский кюре, возможно, думает так же, как я. Даже наверняка. Сегодня утром, когда я развешивал драпировки для отпевания Мари Пердро, мне показалось, что я узнаю его твердый, тяжеловатый шаг по плитам. Но это был всего лишь могильщик, который пришел сказать, что закончил работу.