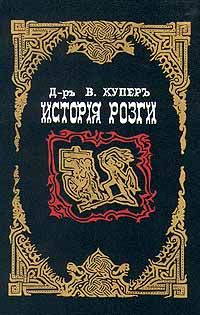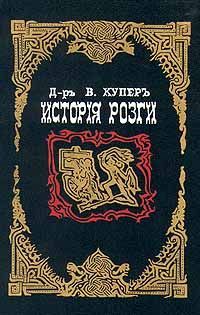Ромен Роллан - Жан-Кристоф (том 2)
Образ действий Кристофа скоро расхолодил его новых друзей. Их поддержка, по существу, была сделкой: они стояли бы за него, если бы он стоял за них; а между тем они поняли, что Кристоф не поступится своим ни на йоту, что приручить его не удастся. Теперь его встречали сухо. Раз он отказывался кадить большим и малым богам, признанным этим кланом, то и ему отказывали в славословиях. Да и произведения его уже не встречали такого приема, как прежде. Некоторые даже выражали недовольство по поводу того, что его имя слишком часто мелькает в программах. Над ним насмехались за спиной, а тем временем критики продолжали свой поход. Отмалчиваясь, Клинг и Лаубер как бы выражали свое согласие с ними. Тем не менее они опасались порвать с Кристофом: во-первых, мозг прирейнского жителя предпочитает полурешения, ничего не решающие и удобные тем, что позволяют затягивать неопределенное положение до скончания века; а кроме того, они рассчитывали в конце концов обломать Кристофа: взять его если не убеждением, то измором.
Но Кристоф опередил их. Если кто-нибудь питал к нему неприязнь, но не желал в этом признаться, пытался обмануть себя и поддерживал с ним приятельские отношения, Кристоф умел доказать приятелю, что в действительности они враги. После одного из вечеров Wagner-Verein'а, где Кристоф наткнулся на стену скрытой враждебности, он, недолго думая, послал Лауберу извещение о своем выходе из общества. Лаубер ничего не понял, а Маннгейм прибежал к Кристофу с намерением все уладить. Кристофа прорвало:
- Нет, нет, нет и нет! Ни слова об этих субъектах. Не хочу я их больше видеть, не могу. Понимаешь? Не могу... Мне так опротивели люди, что я почти не в состоянии смотреть на них.
Маннгейм хохотал от всего сердца. Он не столько успокаивал взволнованного Кристофа, сколько старался развлечься интересным зрелищем.
- Я прекрасно знаю, что не очень-то они хороши, - сказал он, - но разве это новость для тебя? Что же, в сущности, произошло нового?
- Ничего. Просто мне надоело... Да, можешь сколько угодно хохотать, насмехаться. Я - сумасшедший, это всем известно. Благоразумные люди прислушиваются к голосу рассудка. Я - нет; я действую по мгновенному побуждению. Когда во мне накопилось много электричества, необходим во что бы то ни стало разряд; и тем хуже для других, если они обожгутся! И тем хуже для меня! Я не создан, чтобы жить в обществе. Отныне я сам себе господин.
- Неужели ты воображаешь, что можешь обойтись без людей? - спросил Маннгейм. - Ведь не будешь же ты сам исполнять все свои произведения! Тебе понадобятся певцы, певицы, оркестр, дирижер, публика, клака...
Кристоф кричал:
- Нет! нет! нет!
Но при слове "клака" он вскочил:
- Что? Как тебе не стыдно?
- Не будем говорить о наемной клаке (хотя, откровенно говоря, пока еще не найдено другого средства убедить публику в ценности того или иного произведения). Но вообще без клаки не обойтись - пусть это будет маленькая, но хорошо вымуштрованная группа приятелей; у каждого автора она есть; вот тут-то и могут пригодиться друзья.
- Не нужны мне друзья!
- Ну, значит, тебя освищут.
- Пусть освищут - этого я и хочу.
Маннгейм был на седьмом небе.
- Это забава ненадолго. Тебя просто не будут играть.
- Пусть! Разве я домогаюсь славы?.. Да, я изо всех сил рвался к ней... Бессмыслица! Безумие! Глупость!.. Как будто удовлетворение пошленького тщеславия может вознаградить за все жертвы - неприятности, мучения, подлости, унижения, гнусные уступки, - за все, чем оплачиваешь славу! Да будь я проклят, если я буду еще засорять свой мозг подобными заботами! Ну их! Не желаю я иметь ничего общего с публикой и рекламой. Реклама гнусная мошенница. Я хочу быть частным лицом, хочу жить для себя и для тех, кого люблю...
- Вот как! - насмешливо сказал Маннгейм. - В таком случае возьмись за какое-нибудь ремесло. Почему бы тебе не тачать сапоги?
- Ах, будь я башмачником, как несравненный Сакс! - воскликнул Кристоф. - Вот весело было бы жить! Башмачник в будни, музыкант в воскресенье, да и то в тесном дружеском кружке, на радость себе и двум-трем приятелям. Вот это была бы жизнь!.. Только сумасшедший может расточать время и труды ради сомнительного удовольствия попасть в когти безмозглых критиков. Разве не лучше, не прекраснее, когда тебя любит и ценит десяток честных людей, чем когда тебя слушают тысячи ослов: то смешивают с грязью, то превозносят до небес... Нет, теперь дьяволу гордыни и честолюбия не поддеть меня, уж поверь!
- Верю, - сказал Маннгейм. И подумал: "Посмотрим, что он скажет через час".
Он спокойно подвел итог:
- Итак, мы помиримся с Wagner-Verein?
Кристоф воздел руки к небесам:
- Да я же целый час надсаживаюсь, доказывая обратное! Я же говорю тебе: никогда ноги моей там не будет! Меня в дрожь кидает от всех этих Wagner-Verein'ов, от этих обществ, от этих загонов, где бараны сбиваются в кучу и блеют хором. Передай им от моего имени, этим баранам, что я волк, что я зубаст и не в моей натуре довольствоваться подножным кормом!
- Ладно, ладно, передам, - отозвался Маннгейм и ушел, довольный проведенным утром. Он думал: "Совсем сумасшедший, хоть вяжи..."
Маннгейм немедленно пересказал весь разговор с Кристофом Юдифи, - пожав плечами, она заметила:
- Сумасшедший? Ну нет, не верю, как бы ему того не хотелось. Просто глуп и до смешного заносчив.
Между тем ожесточенный поход, начатый Кристофом в журнале Вальдгауза, продолжался. Не то чтобы это доставляло Кристофу удовольствие: ему порядком надоела роль критика, и он готов был все и всех послать к черту. Но, поскольку ему изо всех сил старались зажать рот, он упирался: враги, чего доброго, могли бы подумать, что он капитулирует.
Теперь всполошился и Вальдгауз. Пока он сам оставался невредим среди града ударов, он с олимпийским спокойствием наблюдал за схваткой. Но с некоторых пор другие издания, по-видимому, считали его особу неприкосновенной. Они нападали на него, уязвляя его авторское самолюбие с такой жестокостью, что при более тонком нюхе он сразу почуял бы когти друга. И в самом деле, эти атаки производились по тайному почину Эренфельда и Гольденринга: они не видели другого способа заставить Вальдгауза прекратить полемические наскоки Кристофа. Их расчет был верен. Вальдгауз тотчас же заявил, что Кристоф начинает его раздражать, и перестал поддерживать композитора. Тогда вся редакция принялась изыскивать наилучший способ заткнуть рот Кристофу. Но попробуйте надеть намордник на гончую в то мгновенье, когда она рвет свою добычу! Все увещания только подливали масла в огонь. Кристоф обзывал новых приятелей трусами и заявлял, что будет говорить все - все, что считает своим долгом сказать. Если они хотят выставить его за дверь - на то их воля! Всему городу станет известно, что они такие же трусы, как все прочие, но добровольно он не уйдет.
Удрученные коллеги Маннгейма только растерянно переглядывались и горько выговаривали ему за подарок, который он им преподнес в лице этого помешанного. Маннгейм, по своему обыкновению смеясь, взялся укротить Кристофа: он побился об заклад, что уже в следующей статье Кристоф возьмет тоном ниже. Ему не поверили, но события показали, что обещание Маннгейма не было пустым хвастовством. В следующей статье Кристофа, далеко не медоточивой, все же не было язвительных выпадов. Способ, примененный Маннгеймом, был донельзя прост, и все только удивлялись, как это им раньше не пришло в голову. Кристоф никогда не перечитывал написанные для журнала статьи; корректуру он пробегал небрежно и наспех. Адольф Май делал ему по этому поводу кисло-сладкие замечания: он говорил, что опечатки - позор для журнала; Кристоф же, ставивший критику ниже искусства, отвечал, что те, кого он заденет, уж как-нибудь поймут его. На этом и сыграл Маннгейм: он сказал, что Кристоф прав, что читать гранки дело корректора; он охотно сам возьмет на себя эту обязанность. Кристоф собирался рассыпаться в изъявлениях благодарности, но все в один голос поспешили уверить его, что редакция от этого только выиграет, так как избавится от лишней проволочки. И Кристоф предоставил свои корректуры в распоряжение Маннгейма, прося его получше их выправлять. Маннгейм взялся за дело: это было для него развлечением. Вначале он лишь отваживался слегка умерять резкость некоторых выражений, выбрасывал кое-где обидные эпитеты. Окрыленный удачей, он пошел дальше: начал переправлять целые фразы, извращать их смысл; он проявил в этом занятии подлинную виртуозность. Вся соль была в том, чтобы сохранить костяк фразы и своеобразную манеру Кристофа, но вложить в его уста противоположное тому, что он хотел сказать. На подтасовку мыслей Кристофа Маннгейм затрачивал больше стараний, чем на собственные статьи: он никогда за всю свою жизнь не трудился так усердно. Зато успех был полный: музыканты, которых Кристоф донимал насмешками, с удивлением убеждались, что он мало-помалу становится любезнее и даже начинает расточать им похвалы. Редакция была в восторге. Маннгейм читал им вслух плоды своих упражнений. Они хохотали до упаду! Эренфельд и Гольденринг иногда говорили Маннгейму: