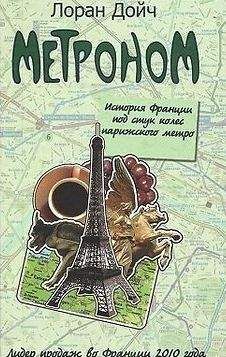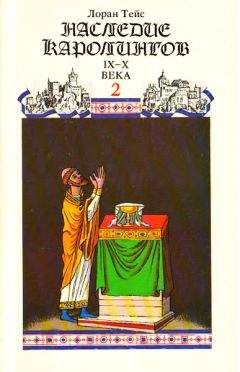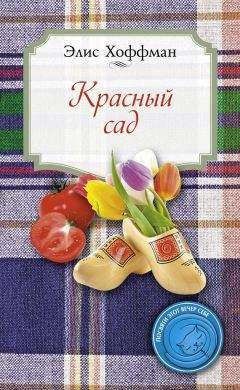Анастасия Вербицкая - Дух времени
Наступила короткая пауза. Блестящими глазами Тобольцев следил за всеми этими лицами, полными недоумения. Опять его потянуло оглянуться на Лизу. И его поразил трагизм ее лица. Невольно выпустил он ее холодную руку. И бессильно она упала на ее колени.
— Но если отнять у нас любовь, то чем же тогда наполнить жизнь? — напыщенно крикнула Конкина.
Глаза Тобольцева сверкнули.
— Трудом, mesdames! Упорным трудом над развитием вашей личности… Идеей, искусством, выработкой миросозерцания, общественными интересами, общественной деятельностью… Всем, чего вы лишили себя и что делает нашу мужескую жизнь мятежной и красивой. Но для этого надо, конечно, научиться независимо стоять на своих ногах, содержать себя и своего ребенка, если он будет. И суметь нести высоко голову в сознании своего права на любовь и на материнство!
Вздох вырвался из груди этих разряженных женщин, с которыми впервые заговорили по-человечески. Сказкой звучали для них эти речи, раскрывавшие туманные, заманчивые дали.
— Этого никогда не будет! — сказала Конкина.
— Напротив… Мы идем к тому. Какая конечная цель тысячелетнего прогресса, как не торжество индивидуализма? Счастие всех и каждого?.. И вы, женщины, все должны стать апостолами новой веры, потому что вы больше всех страдаете от гнета и насилия современных общественных форм… Семья, частная собственность — вот ваши оковы… Когда исчезнут эти кошмары, тысячелетия давившие человека, он встанет во весь рост, вздохнет полной грудью. Он радостно улыбнется солнцу. Он использует всю короткую прекрасную жизнь для себя… Кто из нас теперь живет для себя? Кто свободен? Даже художники, которые рождены богами, не чувствуют своих крыльев и творят, как рабы, по чужой указке… Но наступит время, когда человек на крыльях своей бессмертной души взлетит на все вершины жизни, заглянет во все ее бездны… И сознает себя тем, что он есть, — частицей Природы, не знающей ни лицемерия, ни страха…
Наступила пауза.
Вдруг Фимочка, у которой глазки давно посоловели от ликера и умных речей, вспомнила:
— А второй случай, братец?
— Да, да! Вы говорили о Бюлье…
— Oh, mesdames! Не пожалейте о вопросе!
— Нет, нет, пожалуйста! Это интересно!
— В Бюлье начался бал… Я вас удивлю, mesdames… Знаете ли, что Париж, да и вообще Европа, признает только старый вальс, польку, кадриль, лансье…[74] У них нет, как у нас, этого махрового расцвета новых танцев. Но сколько темперамента они вносят в этот спорт! На днях я был в Романовке, на балу… Мне казалось, я вижу какие-то нагальванизированные трупы, выделывающие pas d'Espagne…[75] [76]
— А кек-уок[77]? — крикнула Конкина.
— Да! Теперь это гвоздь всех публичных балов в Париже. Негритянский танец, бесстыдно-примитивный. Тогда, в Бюлье, еще немногие его знали… Какой-нибудь десяток дам и мужчин. Но эффект вышел большой. Все ахнули, выскочили из-за столиков, кинулись вниз… Окружили тесным кольцом танцоров и с хохотом аплодировали… Мои оба креола преобразились. Закинув головы, с блаженством закатив глаза, свободно перегнувшись назад всем корпусом и заложив пальцы в карманы белых жилетов, они понеслись впереди. Они были обворожительно бесстыдны!.. Вдруг музыка смолкла, и все остановились, запыхавшиеся, красные, возбужденные, с блестящими глазами, с блуждающей улыбкой… В разгаре бала, после полуночи, заиграли кадриль, и начался канкан… тот французский канкан, полный грации, остроумия и изысканного бесстыдства, какому ни один народ подражать не умеет. У немцев, англичан и русских это одна сальность! В Париже это что-то своеобразно экзотическое… И вот, в шестой фигуре, один молодой рабочий, красивый, ловкий, очевидно влюбленный в свою подругу, грациозную швейку, обхватил ее талию, вдруг каким-то неподражаемым движением перевернул ее худенькую фигурку и поставил ее посреди зала головой вниз…
— Ах! — крикнули дамы и покатились со смеху.
Многие зааплодировали. Тобольцев встал с ковра и комически раскланялся, прижимая руки к сердцу.
— Это второй случай… которым вы так упорно интересовались…
Фимочка вдруг сорвалась с дивана и кинулась Тобольцеву на грудь.
— Миленький… Андрюшенька… Поучи нас кек-воку…
— Ковер… неудобно, — заметил кто-то.
Вмиг ковер выдернули из-под дивана, закатали в трубку и поставили в угол. Мебель отодвинули. Нашлись ноты на этажерке. Гостья села за рояль. При общем смехе и аханье Тобольцев прошелся через всю комнату, раз-другой, и остановился.
— Кто со мною? — спросил он весело.
— Я, — смело вызвалась Конкина.
Она, действительно, прошлась недурно, худенькая, вертлявая, легкая, как перо, свободно взбрасывая изящно обутые ножки и перегибаясь назад «декадентской» фигуркой без бюста и бедер.
Фимочка тоже попробовала перегнуться, но тяжело села на пол и замахала руками. В ней было уже около пяти пудов.
В комнате поднялся стон от смеха. Лиза прислонилась к стене и хохотала отрывисто, глухо и злобно. И лицо у нее было «без души», пустое и жесткое… «Как у птицы», — подумал Тобольцев.
Потом он сел за пианино.
— La poupouille… La poupouille… La-a![78] — запел он приятным баритоном модную в тот сезон песенку, бывшую на устах всего Парижа, начиная с депутатов и кончая гарсонами кафе.
Мотив был несложен. Не прошло минуты, как дамы подхватили напев кто неверным, кто слегка охрипшим голосом.
«Вот так оргия в почтенной Таганке!» — подумал он.
Потом с хохотом и визгом снова разложили ковер, усадили Тобольцева в кресло посреди комнаты, а дамы сели на ковре, и их пышные юбки, как цветы, легли венком вокруг.
— А правда ли, что в Париже есть кафе, где женщины… (следовали вопросы на ухо). — А правда ли есть кабачки, где… — И так далее, наперебой… Тобольцев любезно оборачивался на все стороны и отвечал откровенно.
Лиза стояла все там же, у стены, и слушала, не проронив ни одного слова. Грудь вздрагивала от прерывистых вздохов.
— Лиза… Иди ко мне! — крикнул Тобольцев. В эту минуту она ему тревожно нравилась… Она будила в нем что-то дикое, таившееся в его крови сибиряка.
Лиза упрямо качнула головой и не двинулась с места.
— Андрюша! Успокой мое сердце, чокнись со мной! — вдруг завопила опьяневшая, разомлевшая вконец Фимочка.
— И со мной!.. И со мной!
Опять зазвенели рюмки, стали пить ликеры. Кто-то уронил столик и разбил кувшинчик с crême de vanille[79]. Маслянистой алой влагой ликер пополз по атласу кушетки, по платью женщин… Под каблуком дамской туфельки хрястнуло стекло.
— Ай-ай-ай!.. — завизжали дамы.
Лиза подошла к окну, распахнула занавес, открыла форточку и пила холодный воздух.
Фимочка села на колени к зятю и сочно поцеловала его в губы.
— Ай да наши! — сказал Тобольцев и расхохотался.
— Ах!.. Ах!.. — закричали дамы. Чувствовалось, что им завидно, но что у них на это не хватит смелости.
Тобольцев встал. У него кружилась голова.
— Браво, Фимочка! — задорно крикнул он. — Я заслужил награду… Ведь вы не соскучились со мною, mesdames? Кто же еще за это поцелует меня? — И сердце у него забилось от предчувствия.
Все молчали, блестящими глазами глядя на Тобольцев а. Вдруг зрачки его расширились, вспыхнули и как бы впились в побелевшее лицо Лизы.
И тут случилось что-то неожиданное. Лиза отделилась от стены… Как лунатик перешла она комнату и вплотную приблизилась к Тобольцеву, не сводя с него немигающих глаз. Улыбка сбежала к его губ, когда у самого лица своего он увидел эти неподвижные зрачки. Мрак и бездна глядели из них…
Странно захолонуло у него сердце. И он, как во сне, не шелохнулся и не отдал поцелуя, когда холодные губы Лизы в первый раз, опять-таки как во сне, чуть-чуть коснулись его губ.
— Ах, какой пассаж![80] — крикнула Фимочка пьяным голосом. Но оба они ее не слыхали…
«Неужто влюблен?.. А если она?.. Какая глупость! Какое счастие!»
В дверь стучались.
— Отворите!.. Что вы там заперлись? Что за новости? — кричали встревоженные мужья, из которых многие успели отрезветь. А жены задорно хохотали, показывали язык запертой двери, грозили ей кулачками.
— Хозяева бушуют! Ахти!.. Страсти какие! Продулись и о женах вспомнили!
— Когда спать пора! — подхватила Фимочка подбоченясь и грузно покачнулась.
И над всем этим хаосом зловещими потоками звенел отрывистый и злой хохот Лизы.
И Тобольцев почувствовал, что к дикому желанию, загоревшемуся в его крови, примешивается, парализуя страсть, какой-то безотчетный ужас, какой бывает в кошмаре.
VII
Этот вечер для Лизы оказался роковым. Она полюбила Тобольцева с первого взгляда, когда увидала на портрете его лоб, глаза и улыбку. Ей казалось, что ничего прекраснее в своей жизни она не видала и не увидит. Часто, лежа ночью в своем будуаре, она грезила об этом далеком и чужом ей человеке. Грезы ее были чисты и ароматны, как белые лилии, и долго она не понимала себя. Все герои романов, которые она читала, имели тот же хищно-ласковый взгляд, те же чувственно-изогнутые и насмешливые уста… В отсутствие хозяйки она кралась наверх с бьющимся сердцем, чтоб взглянуть в эти глаза. В один из припадков болезни Анны Порфирьевны, ухаживая за нею, она тайком унесла портрет к себе.