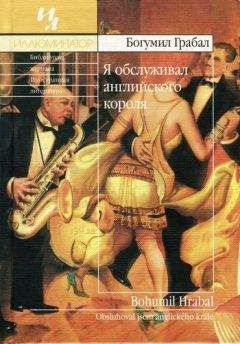Богумил Грабал - Слишком шумное одиночество
VII
Тридцать пять лет я прессовал макулатуру на гидравлическом прессе, тридцать пять лет я думал, что так, как работаю, я буду работать всегда, что пресс выйдет со мной на пенсию, однако уже на третий день после того, как я увидел исполинский пресс в Бубнах, моя мечта рухнула. Я пришел на работу и увидел двоих молодых людей, я узнал их, это были члены бригады социалистического труда, одетые так, будто они собирались поиграть в бейсбол, на них были оранжевые рукавицы, и оранжевые американские кепки с козырьками, и синие комбинезоны, доходившие до сосков... а из-под лямок выглядывали зеленые водолазки. Ликующий начальник отвел их в мой подвал, показал им мой пресс, и молодые люди тут же почувствовали себя как дома, они постелили на стол чистую бумагу и водрузили туда бутылку с молоком, а я стоял, покорный и уничтоженный, я был раздавлен, и внезапно я всей душой и телом осознал, что никогда уже не смогу привыкнуть к переменам, что я очутился в том же положении, что те монахи, которые, узнав, что Коперник открыл иные законы Вселенной, не те, что действовали прежде, и что Земля не является центром мироздания, а совсем наоборот, совершили коллективное самоубийство, потому что не могли представить себе мир другим -- не таким, в котором и благодаря которому они жили до сих пор. А мне начальник велел мести двор, или быть на подхвате, или вообще ничего не делать, потому что со следующей недели я буду паковать чистую бумагу в подвале издательства "Мелантрих" и, кроме чистой бумаги, я ничего паковать не буду. И у меня зарябило в глазах, как же так, неужели я, который тридцать пять лет прессовал бумажный мусор и макулатуру, я, который не мог жить без радостной надежды выловить из грязной бумаги прекрасную книжку себе в награду, должен буду паковать незапятнанную, немыслимо чистую бумагу?! Эта весть низринула меня на самую нижнюю ступеньку подвальной лестницы, и я сидел там совершенно подавленный, как громом пораженный, руки у меня безвольно лежали на коленях, с кривой улыбкой я следил за двумя юношами, которые были тут совершенно не при чем, ведь им просто велели отправиться прессовать бумагу на Спаленую улицу, и они пошли, потому что это их кусок хлеба, их работа, я видел, как они кидали вилами макулатуру в лоток, а потом нажимали на зеленую и красную кнопки, и я лелеял тщетную надежду, что моя машина устроит забастовку, что она прикинется больной, притворится, будто у нее сломались колесики и приводы, но и пресс оказался предателем, он трудился нынче совсем по-другому, напоминая меня самого в молодости, он вкалывал в полную силу и, закончив, даже принялся звенеть, начиная с первого брикета, он все звенел и звенел, будто насмехался надо мной, будто демонстрировал, что только благодаря бригаде социалистического труда ему удалось раскрыть все свои таланты и способности. И я вынужден был признать, что, хотя прошло всего два часа, казалось, будто юноши работают тут уже много лет, они разделились, один залез на кучу, громоздившуюся до самого потолка, и крюком скидывал макулатуру прямо в лоток, так что за какой-нибудь час эти молодые люди спрессовали еще пять брикетов, и начальник то и дело подходил к дыре в потолке, склонялся над ней, и театрально взмахивал своими пухленькими ручками, и восклицал, глядя при этом на меня: "Браво, брависсимо, молодцы!" А я закрывал глаза, и мне хотелось уйти, но ноги не слушались, от унижения я охромел, моя машина совершенно измучила меня этим своим противным звяканьем, означавшим, что через секунду давление достигнет предела и пресс остановится. Я увидел, как блеснули в воздухе вилы и в лоток упала книжка, и я поднялся и вытащил ее, я вытер ее о рубаху и несколько минут прижимал к груди, она меня согревала, хотя и была холодной, я прижимал ее к себе, как мать ребенка, как магистр Ян Гус, чья статуя стояла в Колине на площади, прижимал к себе Библию -- да так, что Библия наполовину вошла в тело этого святого, и я не сводил глаз с двоих юношей, но они даже не смотрели в мою сторону, тогда я выставил эту книгу вперед, чтобы они ее заметили, но они взглянули на нее совершенно равнодушно, и я нашел в себе силы посмотреть на обложку... да, это оказалась хорошая книга, Чарльз Линдберг написал в ней о том, как первый человек перелетел через океан. И я, разумеется, сразу вспомнил о Франтике Штурме, церковном стороже в храме Святой Троицы, который собирал все книги и журналы по авиации, потому что считал Икара предшественником Иисуса Христа, с той лишь разницей, что Икар был низвергнут с небес в море, а Иисус ракетой "Атлас" весом в сто восемьдесят тонн был отправлен на околоземную орбиту, где Он властвует и поныне. Что ж, сказал я себе, сегодня я в последний раз отнесу Франтику в его кабинет микробиотики книгу о том, как Линдберг перелетел через океан. А потом маленьким радостям придет конец. Я выбрался во двор, где сияющий начальник взвешивал молоденькую продавщицу Гедвику, для начала, как обычно, с тюком макулатуры, а затем без него, в этом был весь начальник, как я сходил с ума по книгам, так начальник сходил с ума по девушкам, он всегда, точно так же, как сейчас Гедвику, взвешивал их вместе с макулатурой, а потом без нее, о каждой девушке он вел записи, отмечая ее вес, он резвился с ними, забывая обо всем остальном, он обнимал красавиц за талию и учил их правильно стоять на весах, как будто они собирались там фотографироваться, каждой он всякий раз объяснял устройство этих весов, причем трогал девиц за грудь и талию и, показывая на шкалу, стоял именно так, как стоял сейчас с Гедвикой: за ее спиной, придерживая продавщицу за бока и прижавшись головой к девичьим волосам, которые он с наслаждением нюхал, причем его подбородок лежал на плече у девушки; и он показал на шкалу, а потом шаловливо перекинул гирьки, и радостно поздравил Гедвику с тем, что она не поправилась, и записал ее вес в блокнотик, затем он обхватил ее за талию и воскликнул "Гоп-ля!", как если бы снимал девушку с какой-нибудь приставной лестницы, и он втягивал ноздрями аромат ее груди и, как всегда, просил, чтобы теперь Гедвика взвесила его, и, пока его взвешивали, начальник вопил, задрав голову к дворовой крыше, он жизнерадостно трубил, как старый олень, завидевший юную лань, и Гедвика по обыкновению записала его вес на косяке двери, которая никуда не вела. Я прошел через двор, миновал длинную подворотню и шагнул на улицу, на солнце... впрочем, сегодня меня повсюду окружал сумрак; когда я добрался до церкви, Франтик Штурм чистил щеткой боковой алтарь, он мыл его, как машину, даже не пытаясь скрыть, что блуждает мыслями где-то далеко... у него тоже была исковерканная жизнь, ведь Франтик Штурм увлекался газетами, он писал заметки о сломанных ногах, и его коньком были еженедельные сообщения о драках и скандалах, закончившихся белой горячкой и отправкой дебоширов в больницу или же, в "воронке", в полицейский участок, он печатался в "Чешском слове", в вечерних газетах и не хотел больше ничего -- только писать о драках, но его отец был церковным сторожем, и, когда он умер, Франтик унаследовал его место; он сторожил, но в душе не переставал писать обо всех пьяных дебошах в Старом и Новом Городе, а как только у него выпадала свободная минутка, он скрывался в своей каморке в доме священника, усаживался в резное епископское кресло, доставал книгу об авиации и с волнением читал про новые самолеты и про авиаконструкторов. У Франтика было не меньше двухсот таких книг, я протянул ему найденный в подвале томик, Франтик вытер руки, и по его улыбке я сразу понял, что такой книжки у него в микробиотической библиотечке нет, он посмотрел на меня, и я почувствовал, что своим взглядом он заключает меня в объятия, у него даже глаза повлажнели -- так он был растроган, а еще я понял, что подошла к концу прекрасная эра маленьких и мелких радостей, которые несло с собой мое подвальное житье, и никогда уже я не смогу дать Франтику Штурму утешение. Так мы и стояли под сенью крыльев двух огромных ангелов, висящих на цепях над боковым алтарем, но тут бесшумно раскрылась дверь и неслышной поступью вошел священник, который сухо велел Франтику Штурму облачаться в одеяние служки и отправляться с ним вместе причащать умирающего. И я вышел в солнечное утро и остановился перед скамеечкой для молитвы под статуей святого Фаддея, я провел там несколько минут, вспоминая, как молился, как просил этого святого заступиться за меня на небесах и сделать так, чтобы эти мерзкие машины, которые возили на мой двор отвратительную бумагу с мясобоен и из магазинов "Мясо", рухнули вместе со всем своим грузом во Влтаву, а потом я вспомнил, как когда-то, когда мне еще было до шуток, я прицеплял к шапке отыскавшиеся в макулатуре звездочки и опускался на эту скамеечку на колени, а возле меня проходили бывшие домовладельцы и громко произносили: "Дожили, рабочие -- и те к кресту лезут..." И я стоял, надвинув шляпу на глаза, и вдруг меня осенило -- а почему бы мне не опуститься на колени и не испытать последнее средство, молитву Фаддею, пускай он сделает чудо, ведь одно только чудо может вернуть меня к моему прессу, в мой подвал, к моим книжкам, без которых я умру, и тут в меня врезался профессор эстетики, его очки сияли на солнце, точно две пепельницы, он замер передо мной в совершенном смущении, по обыкновению с портфелем в руке, и спросил, как всегда, когда я бывал в шляпе: "А юноша на месте?" И я призадумался, а потом сказал, что, мол, нет. "Господи, неужели он заболел?" -- перепугался профессор. Нет, отвечаю, он не болен, но я вам прямо скажу, что пришел конец всем статьям Рутта и рецензиям Энгельмиллера... Тут я снял шляпу, и профессор эстетики испугался так, что у него даже колени подогнулись, ткнул в меня пальцем и воскликнул: "Вы тот юноша -- и вы же тот старик?!" Я надел шляпу, натянул ее на лоб и произнес с горечью: "Ну да, так оно и есть, и не будет больше ни старой "Народной политики", ни "Народных листов", потому что меня выгнали из моего подвала, ясно?" И я пошел к следующему дому, к подворотне нашего двора, куда я ходил тридцать пять лет. Профессор приплясывал вокруг, он забегал вперед, трогал меня за рукав, сунул мне в ладонь десять крон... потом добавил к ним еще пять, а я взглянул на эти деньги и сказал грустно: "Это чтобы мне лучше искалось?" А профессор положил руку мне на плечо, из-за десяти диоптрий глаза у него казались большими, как у лошади, и закивал, пробормотав: "Да-да, чтобы вам лучше искалось." Я отвечаю: "Искалось? Что искать-то?" Тут он уже совсем растерялся и прошептал: "Счастье... какое-нибудь другое." А потом он поклонился, пятясь, отступил от меня, развернулся и пошел прочь... прочь с места крушения. Когда же я свернул в нашу подворотню и услышал, как весело тренькает мой гидравлический пресс, так весело, как сани, везущие развеселую свадьбу, я понял, что не могу идти дальше, не могу даже глядеть на мой пресс, и я повернулся и шагнул на тротуар, в глаза мне ударило солнце, я остановился, не зная, куда идти, и ни одна прочитанная книга из тех, которым я приносил клятву верности, не пришла мне на помощь в эту грозную минуту, и в конце концов я побрел к святому Фаддею, тяжело опустился на скамеечку для молитв, обхватил голову руками, и меня одолели то ли сон, то ли дремота, то ли грезы, а может, от обиды у меня уже помутился рассудок, я прижимал ладони к глазам и видел, как мой гидропресс превратился в самый гигантский из всех гигантских прессов, я видел, что он стал таким огромным, что четыре его стены окружили всю Прагу, я видел, как я нажал зеленую кнопку, боковые стенки пришли в движение, размерами они были схожи с плотинами на водохранилищах, я видел, как первые блочные дома начинают качаться, а стенки пресса играючи, точно мышки в моем подвале, движутся все дальше и дальше, гоня перед собой все, что стояло у них на пути, с высоты птичьего полета я видел, как в центре Праги жизнь все еще идет своим привычным чередом, а между тем стенки моего исполинского пресса гребут и разоряют городские окраины и толкают все подряд к центру, я вижу стадионы, и церкви, и всяческие учреждения, вижу, как все улицы и переулки, все начинает рушиться, и стенки моего апокалипсического пресса не дают улизнуть даже мышке, и вот я вижу, как падает Град, а на другом берегу обрушиваются золотые купола Национального театра, и воды Влтавы вздымаются, но сила моего пресса настолько ужасающа, что он легко, как с макулатурой в подвале под моим двором, справляется со всеми препятствиями, я вижу, как стенки гиганта все быстрее и быстрее гонят перед собой то, что они уже разрушили, я вижу самого себя, на которого валится храм Святой Троицы, я вижу, что уже ничего не вижу, что я раздавлен, намертво спаян с кирпичами, балками и моей скамеечкой для молитв, а потом я уже только слышу, как трещат, сплющиваясь, трамваи и машины, а стенки пресса сходятся все ближе и ближе, пока еще внутри хватает свободного места, пока еще во тьме развалин остается воздух, но он шипит под напором четырех стен исполинского пресса и рвется вверх, смешиваясь с людскими стонами, и я открываю глаза и посреди пустой равнины вижу огромный брикет, спрессованный куб с гранями в пятьсот или более метров, я вижу, что вся Прага оказалась спрессованной -- вместе со мной, со всеми моими мыслями, со всеми текстами, что я когда-либо прочел, со всей моей жизнью, и места я занимаю не больше, чем крохотная мышка, которую прессуют сейчас вместе с бумагой там, внизу, в моем подвале два члена бригады социалистического труда... Я с изумлением раскрыл глаза; я по-прежнему стоял на коленях перед святым Фаддеем, какое-то время я тупо смотрел на трещину на скамеечке, а потом поднялся и стал вглядываться в красные черточки трамваев, в машины, в спешащих пешеходов, на Спаленой улице люди подолгу не задерживаются, покинув Национальный проспект, они торопятся на Карлову площадь, либо наоборот, тротуары тут узкие, поэтому прохожие не останавливаются, в спешке они даже натыкаются на меня, и я, опершись о стену дома священника, тупо наблюдаю за происходящим, я вижу, как из ворот этого же дома выходит Франтик Штурм, облаченный по обыкновению в праздничный костюм и даже галстук... торжественным шагом спустившись со ступеней, он направился ко мне в подвал, но тут заметил меня, приблизился, поклонился и, как всегда, спросил: "Вы -- пан Гантя?" Я ответил, как отвечал ему прежде во дворе или в подвале: "Да, это я." И Франтик Штурм протянул мне конверт, еще раз поклонился и отправился обратно в свою комнатку в доме священника, чтобы переодеться, потому что Франтик Штурм всегда, когда я отыскивал для него какую-нибудь книгу, представлявшую ценность для его библиотечки, надевал строгий плащ, и каучуковый воротничок, и галстук, похожий на капустный лист, чтобы торжественно вручить мне письмо; вот и сегодня я, как всегда, вскрыл конверт, и там, на белом листке с затейливой надписью сверху КАБИНЕТ МИКРОБИОТИКИ ФРАНТИКА ШТУРМА, было напечатано: "Милостивый государь, от имени Кабинета микробиотики благодарим Вас за книгу Чарльза Линдберга "Мой перелет через океан". Эта книга обогатит нашу библиотеку, и мы надеемся, что наше с Вами сотрудничество будет продолжаться. От имени Кабинета микробиотики ФРАНТИК ШТУРМ". И круглая печать, собравшиеся в кружок буквы КАБИНЕТ МИКРОБИОТИКИ ФРАНТИКА ШТУРМА. Я в задумчивости шел по направлению к Карловой площади, как всегда, я порвал это послание, эту благодарность, о которой мне доподлинно было известно, что она последняя, потому что моя машина в подвале, мой славный пресс, предавший меня, уже отзвонил по этим крохотным мелочам и крохотным радостям. Я, беспомощный, стоял на Карловой площади и смотрел на сияющую статую, прицементированную к фасаду, статую Игнатия Лойолы, все тело которого излучало сияние, он стоял на фасаде собственного храма, и вся его фигура была окружена ликующими золотыми трубами... мне же вместо ореола виделась поставленная вертикально золотая ванна, в которой стоя лежал Сенека, только что ножом вскрывший вены у себя на руках в доказательство того, что ход его мыслей был верен и что он не зря написал книгу, которую я любил: "О душевном покое".