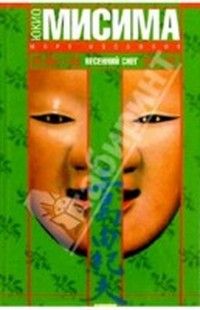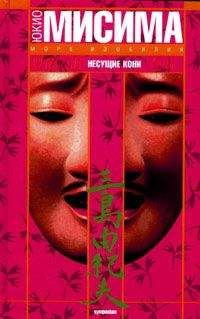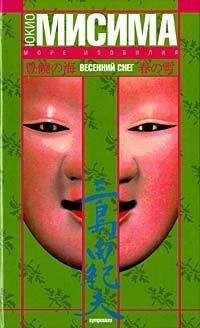Маргерит Юрсенар - Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе
Даниель родился в июне, в Вороино, в печальных краях Белогорья, где когда-то родился я сам. Вы во что бы то ни стало хотели, чтобы он появился на свет среди этого старинного пейзажа - этим Вы как бы с большей полнотой вручали мне моего сына. Дом, хотя его отремонтировали и заново покрасили, остался прежним - он только казался более просторным, потому что нас стало меньше. Мой брат (у меня остался только один брат) жил здесь со своей женой; это были самые настоящие провинциалы: привыкнув к одиночеству, они дичились людей, привыкнув к бедности, стали боязливыми. Они приняли нас с какой-то неловкой услужливостью и, поскольку дорога Вас утомила, предложили Вам, желая оказать Вам честь, большую комнату, где умерла моя мать и где родились мы все. Ваши руки на белом пододеяльнике были почти такими, как у нее, и каждое утро, как в те времена, когда я входил к матери, я ждал, чтобы эти длинные хрупкие пальцы легли мне на голову, благословляя меня. Но я не смел об этом просить и просто целовал их. Между тем я так нуждался в благословении. Комната была сумрачная, нарядную постель с двух сторон затенял тяжелый полог. Думаю, многие женщины моей семьи в былые времена лежали здесь, ожидая ребенка или смерти, и как знать, может быть, смерть это просто рождение души.
Последние недели Вашей беременности были тяжелыми: однажды вечером невестка пришла сказать мне, чтобы я молился. Я не стал молиться, я только твердил себе, что Вы непременно умрете. Я боялся, что не испытаю подлинного отчаяния, и заранее угрызался. А Вы смирились. Смирились, как те, кто не слишком дорожит жизнью, и в этом спокойствии я тоже видел упрек себе. Может быть, Вы чувствовали, что наш союз не из тех, которые длятся всю жизнь, что однажды Вы полюбите кого-нибудь другого. Когда боишься будущего, легче умереть. Я держал в своих руках Ваши руки, всегда лихорадочно горячие, мы оба молчали, думая об одном - о том, что Вы, вероятно, скоро умрете; Вы были такой усталой, что даже не задавались вопросом, что станется с ребенком. А я с негодованием говорил себе, что природа несправедлива к тем, кто подчиняется самым внятным ее законам, поскольку каждое рождение подвергает опасности две жизни. Каждый, кто появляется на свет, причиняет страдания, а умирая, страдает сам. Но беда даже не в том, что жизнь жестока, а в том, что она тщетна и лишена красоты. Торжественность рождения, как и торжественность смерти, для тех, кто при них присутствует, тонет в отвратительных или просто вульгарных подробностях. Меня перестали пускать в Вашу спальню, Вы боролись в окружении женщин, которые хлопотали вокруг Вас и молились, и, поскольку лампы горели всю ночь, чувствовалось, что кого-то ждут. В Ваших криках, долетавших до меня через закрытую дверь, было что-то нечеловеческое, внушавшее ужас. До этого я как-то не представлял себе, что Вам предстоит схватка с этой чисто животной формой страдания, и корил себя за этого ребенка, который повинен в Ваших криках. Вот так, Моника, все связано не только в жизни, но и в душе: воспоминание о тех часах, когда я считал, что Вы обречены, может, и способствовало моему возвращению к тому, к чему меня всегда влекли мои инстинкты.
Меня ввели в Вашу спальню, чтобы показать ребенка. Все здесь уже успокоилось; Вы были счастливы, но счастьем физическим, в котором больше всего было усталости и освобождения. Только ребенок плакал на руках у женщин. Думаю, он страдал от холода, от звука слов, от прикосновения пеленок и рук, которые им манипулировали. Жизнь только что вырвала его из жаркого сумрака материнского лона; наверное, ему было страшно, и ничто, даже ночь, даже смерть не заменили бы ему этого воистину первородного убежища, потому что в сумраке ночи и в сумраке смерти царит холод и его не оживляет биение сердца. Я оробел перед ребенком, которого надо было поцеловать. Он не внушал мне ни нежности, ни даже привязанности, а только огромную жалость, ведь, глядя на новорожденного, никогда не знаешь, какую причину для слез уготовило ему будущее.
Я говорил себе, что это будет Ваш ребенок, Моника, не столько мой, сколько Ваш. Он унаследует от Вас не только богатство, которого так давно было лишено Вороино (богатство, друг мой, не дает счастья, но часто открывает к нему путь); он унаследует также Вашу прекрасную, спокойную повадку, Ваш ум и ту ясную улыбку, какую мы часто встречаем на холстах французских художников. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Повинуясь слепому чувству долга, я взял на себя ответственность за его жизнь, которой, возможно, грозила опасность стать несчастливой - ведь он мой сын; единственное мое оправдание в том, что я дал ему такую замечательную мать. Но при этом я твердил себе, что он наследник имени Жера, что он принадлежит к семье, члены которой заботливо передают друг другу представления такие давние, что они уже вышли из употребления, как позолоченные сани и придворные кареты. Как и я, он потомок жителей Польши, Подолии и Богемии; ему будут свойственнны их страсти, их внезапные разочарования, их склонность к печали и диковинным наслаждениям, судьба начертает ему все, что начертала им, что начертала мне. Ведь мы - представители той странной человеческой породы, в которой из века в век меланхолия чередуется с безумием, как чередуются в ней карие и голубые глаза. У нас с Даниелем глаза голубые. Теперь ребенок спал в колыбели, пододвинутой к кровати; составленные на стол лампы смутно освещали комнату, и семейные портреты, на которые обычно не смотришь, потому что они все время перед глазами, вдруг перестали быть просто частью обстановки и заявили о себе. Воля, которую выражали лица этих предков, осуществилась: наш брак привел к рождению ребенка. Через него старинный род продолжится в будущем; теперь в моем существовании больше не было нужды - я уже не интересовал мертвых, я мог теперь исчезнуть, умереть или, наоборот, заново начать жить.
Рождение Даниеля нас не сблизило - оно принесло нам такое же разочарование, как и любовь. Мы больше не возобновляли совместной жизни; я уже не прижимался к Вам по ночам, как ребенок, боящийся темноты, - мне вернули комнату, в которой я спал, когда мне было шестнадцать. В этой постели, где я обрел не только мои былые сны, но даже углубление, образовавшееся в ней под тяжестью моего тела, мне стало казаться, что я вновь воссоединился с самим собой. Мы напрасно воображаем, мой друг, будто жизнь нас меняет - она изнашивает нас, и притом изнашивает в нас только благоприобретенное. Я не изменился, просто между мной и моей натурой вклинились обстоятельства; я оставался таким, каким был прежде, и, пожалуй, в большей степени, чем прежде, ибо по мере того, как рушатся одна за другой наши иллюзии и верования, мы все глубже познаем свою истинную сущность. Все мои похвальные усилия и добрая воля привели к тому, что я обрел себя такого, каким был раньше: душу, все еще в какой-то мере мятущуюся, но разочарованную двумя годами добродетельной жизни. Есть от чего пасть духом, Моника. Казалось также, что долгая материнская работа, свершавшаяся в Вас, вернула Вашей натуре ее исконную простоту: Вы стали такой, какой были до замужества, - молодым существом, жаждущим счастья, только более твердым, более спокойным, в меньшей мере обремененным душой. Ваша красота достигла какого-то умиротворенного расцвета - а я чувствовал себя больным и радовался этому. Мне неловко и сегодня говорить Вам о том, сколько раз в те летние месяцы я желал умереть, и я не хочу знать, что думали Вы, - не сравнивали ли Вы себя с женщинами более счастливыми и не винили ли меня за то, что я погубил Ваше будущее. И однако мы продолжали любить друг друга, насколько можно любить, не испытывая взаимной страсти. Теплый сезон (второй за время нашего брака) кончился вдруг слишком быстро, как это обычно бывает в северных краях; мы молча присутствовали при закате лета и закате нежности, которые принесли свои плоды и которым теперь оставалось только умереть. В этой печальной атмосфере ко мне и вернулась музыка.
Однажды сентябрьским вечером, накануне нашего отъезда в Вену, я поддался соблазну, влекшему меня к фортепиано, которое все это время стояло закрытым. Я был один в полутемной гостиной; случилось это, как я уже сказал, в последний вечер перед отъездом из Вороино. Уже в течение многих недель меня снедали какая-то физическая тревога, лихорадка, бессонница; я пытался с ними бороться, виня во всем наступившую осень. Бывают мелодии, такие свежие, что ими можно утолить жажду, так, по крайней мере, я думал. И начал играть. Я играл; сначала осторожно, тихо, бережно, словно хотел убаюкать собственную душу. Я выбирал самые умиротворяющие пьесы, чистое зеркало духа, Дебюсси и Моцарта, - казалось, я, как когда-то в Вене, боялся будоражащей музыки. Но моя душа, Моника, не хотела забыться сном. А может, то была и не душа. Я играл рассеянно, продлевая тишиной звучание каждой ноты. То был (я уже упомянул об этом) мой последний вечер в Вороино. Я знал, что мои руки никогда больше не коснутся этих клавиш, никогда больше не наполнят звуками эту комнату. В своих физических страданиях я видел зловещее предзнаменование: я решил, что не стану противиться смерти. Отдавая душу вершинам арпеджио, как отдают тело готовящейся опасть волне, я ждал, что музыка поможет мне рухнуть в бездну и в забвение. Я играл, изнемогая. Я говорил себе, что жизнь надо было прожить иначе и что излечить нас не может ничто - даже выздоровление. Я чувствовал, что слишком устал от смены усилий и падений, равно изнурительных, и однако в музыке я уже наслаждался собственной слабостью и отказом от борьбы. Я уже не мог, как прежде, презирать жизнь страстей, хотя ее страшился. Моя душа проникла в глубины тела, и, возвращаясь, мысль за мыслью, аккорд за аккордом, к моему самому интимному, самому потаенному прошлому, я сожалел уже не о своих грехах, а о тех радостях, возможности которых упустил. Не о том, что я слишком часто поддавался соблазну, а о том, что слишком долго и жестоко сопротивлялся ему.