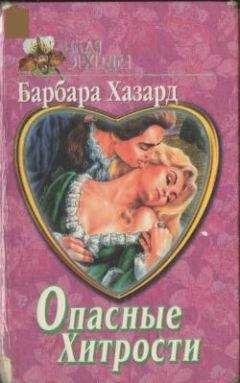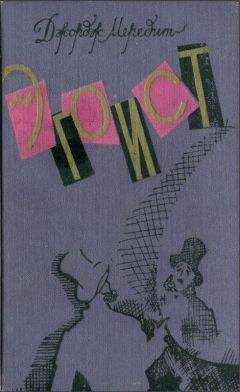Арман Лану - Майор Ватрен
— Меня им бы не удалось так взять, господин лейтенант. Я этих жандармов…
Франсуа печально улыбнулся и остановился. Рота обогнала его. Он задыхался. За его зебрами следовала первая рота во главе с капитаном Бланом, его сопровождал Эль-Медико.
— Ну, как обошлось вчера утром, капитан? — спросил Франсуа у Блана.
— Плохо, — ответил Блан.
— Хорошо, — сказал Эль-Медико. — Все зависит от точки зрения на вещи.
Его саркастический тон был просто невыносим.
— Дюрру, — сказал Франсуа, — никогда в жизни мне так не хотелось дать человеку в морду!
— Ты бы зря потратил время, — ответил врач. — Ты вызываешь жалость, да и Пофиле тоже. Он прячется от людей, точно прокаженный.
— Перестаньте, Дюрру, — сказал Блан.
— Вы не поняли меня, господин капитан. Или вы с ними заодно? Они напоминают мне деревенских увальней, которые, продавая свинью, хотят сохранить сало! Вы принимаете войну? Ну так и воюйте же, господа! И не морочьте себе голову девичьей сентиментальностью, мещанскими нежностями и щепетильными угрызениями совести!
— Я думаю, Дюрру, — сказал Франсуа, — что расстрелянный разделял твои убеждения.
— Разумеется, — резко ответил Дюрру. — Впереди еще не один расстрел. Шутки только начинаются. Я не терзаюсь стыдом, как вы. Я горд за этого парня!
— Дюрру!
— Господин капитан, нам осталось только несколько дней говорить то, что думаешь. Разумеется, среди своих, да и то, если не слишком боишься сгнить за пораженчество в концлагере! Сейчас я говорю, что думаю, а потом уж заткну свою неуемную глотку. Да, я горжусь этим парнем. Знаете ли вы хотя бы его имя?
Нет! В течение всего времени, пока происходила эта драма, Субейрак называл его человеком.
Дюрру продолжал с холодным бешенством:
— Его звали Маршан. Совсем как знаменитого Маршана[19]. Огюстен Маршан. Он родился в Бийянкуре в 1903 году. Не был женат, но имел ребенка. Он отказался от спирта и сигареты и вежливо попросил священника оставить его в покое. Он не позволил завязать себе глаза.
Каждое слово Дюрру, точно плетью, хлестало Субейрака. Но он не мог заставить его замолчать, да и не хотел. Военврач Дюрру, бывший пехотный капитан Интернациональной бригады на мадридском фронте, имел что сказать на этот счет, и его мнение, мнение человека, уверенного в своей правоте, производило неотразимое впечатление на этих людей, ищущих истину в потемках.
По другой стороне дороги шел гуськом взвод стрелков. Солдаты пели песенку, которую они столько раз горланили в северных равнинах:
Английские мальчики наставили рога
Парням с севера,
Парням с севера,
Английские мальчики наставили рога
Парням с севера,
Да и с Па-де-Кале.
Офицеры выждали, пока стрелки обогнали их, и сделали вид, будто не слышат песню.
— Маршан сказал несколько слов, — продолжал Дюрру: — «Мой отец был расстрелян немцами в ту войну». Это все. И по-моему, этого достаточно. Хотя, простите! Он еще добавил: «Я ни в чем не виновен». Но как раз в этом-то никто и не сомневался. Взвод произвел залп. Пофиле прекрасно справился со своей работой. Парня сейчас же похоронили. На могиле поставили крест, повесили на него каску Маршана и сделали на кресте надпись: «Огюстен Маршан, погиб за Францию».
— Не может быть — выдохнул из себя Субейрак.
— Ты хороший парень, Субей, — сказал Эль-Медико, — но ты все еще ребенок!
— Они поступили согласно инструкции, — сказал добрый, седой капитан Блан.
— Мало того, что человека убивают, но его и после смерти еще обкрадывают во имя креста, который он отвергал, и во имя Франции, хотя он был интернационалистом. Это никогда не будет согласно инструкции, капитан Блан. Маршан умер противником креста и борцом за Интернационал.
Эль-Медико помолчал и добавил:
— Во всем этом было только одно смешное обстоятельство. — Несмотря на привычную сдержанность Эль-Медико испытывал потребность во что бы то ни стало выговориться: — Мэр настоял на том, чтобы присутствовать! Вид у него был такой, точно его самого пропускали через эту мясорубку! Он десять раз повторил: «Раз уж вы берете на себя всю ответственность». Шут несчастный! Между прочим, ваши люди прекрасно стреляют, господин капитан! Разумеется, с точки зрения судебно-медицинского эксперта. Все пули попали прямо в грудь.
Дюрру сплюнул от отвращения и гнева.
— Господин капитан, — сказал Субейрак, — я видел этого человека (он никак не мог назвать его Маршаном) за несколько часов до конца.
— Я знаю, — сказал Блан. — Я делал обход и около трех часов ночи встретил майора. Расскажите.
— Он был спокоен и играл в карты. Как вы думаете, знал ли он уже в это время, что его расстреляют? Иначе говоря, сообщили ли ему приговор военного трибунала?
На склонах зрела пшеница, поле пестрело маками.
— Я полагаю, что сообщили, — ответил капитан. — Во всяком случае, по инструкции они должны были это сделать. Я так полагаю, но в точности мне это неизвестно.
В небе проносились самолеты, поблескивая, как стальные ножи. Офицеры даже не смотрели на них. Они хорошо знали, что это были не французские самолеты.
— Майор Ватрен ничего не сказал перед тем, как приговор привели в исполнение? — спросил Субейрак.
— Сказал. Он прочел текст приговора и произнес несколько слов…
— Что-то вроде: «Дисциплина, составляющая главную силу армии…» — заметил Дюрру.
— Дюрру, не могли бы вы на время оставить свои отвратительные шутки, которыми вы пытаетесь выгородить себя за чужой счет?
— Браво. Прямое попадание, капитан! Извините, но я, кажется, не могу обойтись без них.
— Майор выразился еще проще, Субейрак. Он сказал: «Война — есть война».
— Ну вот, наконец-то разумное слово! Все дело в этом, — бросил Дюрру. — На этот раз простота майора оказалась кстати. Эта война до сих пор все еще не разродилась, все еще не показала себя по-настоящему. Вчера утром был сделан шаг вперед. Что у тебя с ногой, Субейрак?
— Растяжение.
— Ты мне покажешь ее на привале.
— Да что толку!
— Все же покажи.
Сзади зафыркал мотор. Они обернулись. Подходил батальонный грузовичок. Он двигался ненамного быстрее, чем колонна.
— А еще лучше, садись на грузовик, — сказал врач.
— Нет, — ответил Субейрак.
— Ну и дурак!
Грузовик, размалеванный желтыми и коричневыми разводами, обогнал их.
— Ну конечно, — сказал Дюрру, — не так уж приятно лезть в грузовик, который отвез на кладбище Маршана.
Субейрак вздрогнул.
— Я об этом даже и не подумал!
На кузове удаляющегося в клубах пыли грузовика можно было под грубым камуфляжем разобрать слова, выдававшие его гражданское происхождение:
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ. ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Эль-Медико дружески похлопал Субейрака по плечу и сказал ему с мягкой иронией, почти с нежностью:
— Душевный мир держится на волоске, Субей!
Часть вторая
Ночь в Веселом лесу
Субейрак чиркнул зажигалкой, фитилек загорелся, мерцая в темноте. Разнесся едкий запах. Он напомнил Субейраку полузабытый аромат опавших листьев, которые бабушка жгла осенью в велейском саду, где прошли детские годы Франсуа. Из дому давно не было вестей. В январе, когда он приезжал в отпуск, бабушка показалась ему очень одряхлевшей. «Боже мой, может быть, я больше ее не увижу!» Он вдруг отчетливо представил ее себе: вот она с красной косынкой на плечах, полные румяные щеки — точно спелые яблоки. Бабушка сует ему в руку три новенькие тысячефранковые бумажки — шла сентябрьская мобилизация. Этот жест многое объяснил Субейраку. Она могла бы сообразить, что эти деньги ему не понадобятся, что даже жалованье он будет отсылать домой, оставляя себе лишь на самое необходимое; но память старой женщины начала уже заволакиваться туманом. Субейраку была нестерпимо тяжела мысль, что она, быть может, стоит уже на пороге смерти.
Франсуа поднес зажигалку к часам: без пяти два.
Он зашагал дальше по плохо вымощенной дороге, которая вела от кирпичного завода к шоссе Ретель-Реймс. Ночь была безлунная, но звездная. Прошло уже двенадцать суток со дня вольмеранжской драмы.
Субейрак еще не вполне пришел в себя: только что его крепкий молодой сон был прерван грубым окриком майора Ватрена.
— Эй вы, поднимайтесь! Все бы вам спать да спать!
Можно подумать, что он хоть раз выспался! Не поймешь, как сам-то майор держится на ногах! Он только что проделал девятикилометровый обход своих рот и еще работал над картами, когда Субейраку пришлось покинуть обжигательную печь кирпичного завода, где расположился КП батальона. На их участке уже становилось туго, и эта печь представляла собой превосходное, надежное убежище.