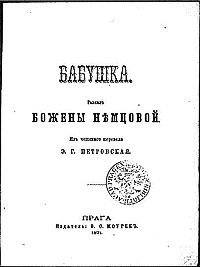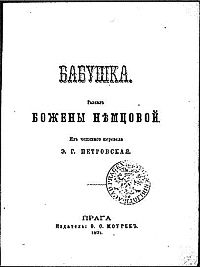Лион Фейхтвангер - Изгнание
По существу, Шпицци не желал редактору Беньямину ни худа, ни добра. Шпицци не знал больших страстей. У него была только одна действительная потребность - веселиться. И он считал, что добиваться от общества удовлетворения этой потребности - его право. Уж она одна оправдывала поручение, данное Дитману. Но теперь, когда дело осложнилось, Шпицци испытывал нечто вроде неприятного похмелья.
И все-таки, не комично ли: зубодер Вольгемут гордится, что выжал у него, у нациста, крупный денежный куш для эмигрантов, между тем как раздутый счет этого еврея лишь содействовал похищению славного Беньямина. Если представить себе связь событий, то получается великолепная шутка. Медведь - охотник до таких шуток. Достаточно рассказать ему об этой потехе, и Шпицци опять будет пользоваться его благоволением.
Такие мысли бродили в голове господина фон Герке, пока доктор Вольгемут возился с его челюстями, сверлил, подтачивал, пилил. Наконец он вынул вату и позволил Шпицци закрыть рот.
- Полощите, - приказал доктор Вольгемут.
Шпицци охотно повиновался. Он прополоскал рот, провел языком по тому месту, где еще несколько минут назад торчали зубы. Было странно касаться языком беззубых десен, ощущать неровные, окровавленные пеньки, чужие, безжизненные от наркотического снадобья.
Затем Вольгемут принялся за корни, по его выражению, он производил уборку в каналах корней. Действие наркоза ослабело; небо у господина фон Герке стало пощипывать. Доктор Вольгемут еще долго и деятельно возился во рту мосье барона. Он зажимал ему зубы и пеньки маленькими тугими кольцами, которые врезались в десны, снимал восковые оттиски и делал гипсовые слепки челюстей - приятным это занятие нельзя было назвать.
Работая без устали, доктор Вольгемут рассуждал по поводу новых зубов мосье барона:
- Время от времени я хожу в театр и любуюсь своими зубами. Я, конечно, имею в виду зубы Раймона Фонтаня. Откровенно говоря, я недоволен ими. Они слишком ослепительны, слишком красивы. Таких красивых зубов не бывает. У господа бога они столь совершенными не получаются, сотворить такие зубы может только доктор Вольгемут. Долго я бился с упрямцем. "Красивее, когда не так красиво", - объяснял я ему. Но с этими актерами сладу нет. Очень уж они тщеславны. Не повторяйте той же глупости, мосье барон. Советую вам, пока не поздно. Я даю вам хороший совет. По-моему, если хотите знать мое мнение, те зубы, которые вы выбрали, слишком блестящи. Не надо, чтобы ваши драгоценные новые зубы были чересчур красивы. Посмотрите: вот эти на полтона тусклее, на полтона желтее. Они скорее произведут впечатление настоящих.
- Лучше все-таки те, блестящие, - прошамкал беззубым ртом господин фон Герке.
Только около девяти часов вечера доктор Вольгемут отпустил наконец Шпицци; он и сам очень устал, но был доволен. Он разглядывал чек, врученный ему господином фон Герке; это была вторая половина гонорара чек на пятнадцать тысяч франков. Он с любовью оглядел его, потом запер в ящик. Завтра фрау Траутвейн чистенько напишет адрес, и деньги будут отправлены комитету помощи немецким эмигрантам. Доктор Вольгемут горд, что сумма так велика, и еще более, - что он так остроумно и хитро вытянул у Герке деньги. "Вероятно, так же, как себя чувствует сейчас мосье барон, думал Вольгемут, - чувствовал себя в свое время канцлер Аман, когда вел через весь город под уздцы любимого коня царя Ахашвероша, на котором восседал торжествующий Мардохей, и скрепя сердце славил перед всем народом этого Мардохея".
Доктор Вольгемут ошибался. Господин фон Герке отнюдь не чувствовал себя, как в свое время канцлер Аман.
Он поехал домой, лег в постель, принял болеутоляющее и велел принести себе бутылку старого вина. Ему заметно полегчало, совсем не так уж неприятно было провести вечер дома и в полном уединении. Он просмотрел вечерние газеты, потом отобрал несколько книг - давно, хотя бы в порядке выполнения служебных обязанностей, ему следовало их прочитать - и остановился на романе, автором которого был большевиствующий литератор, а темой - судьба германских антифашистов. Господин фон Герке читал с интересом, не без эстетического удовольствия, временами сильно увлекаясь.
В книге упоминалось о судьбе писателя Теодора Лессинга, которого "ликвидировали" национал-социалисты, и господин фон Герке, читая это место, подумал о редакторе Беньямине. До чего глупо, что эта история не прошла гладко.
Он откинулся на подушки и машинально провел языком по пенькам, временно заложенным ватой и залитым воском. Через две недели, самое позднее - через три он сможет показаться в кругу приятелей в блеске новых зубов: он будет смело улыбаться ослепительной, сияющей улыбкой. Мысли о редакторе Беньямине исчезли. Шпицци приподнялся, отхлебнул несколько глотков бургундского, снова взялся за книгу. Роман большевиствующего писателя захватывал его все больше и больше. "В сущности, - подумал он, писатели-эмигранты должны быть нам благодарны за великолепные сюжеты, которые мы им поставляем".
6. ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА
Хотя Зепп Траутвейн после исчезновения Беньямина первый заподозрил, что тут замешана германская полиция, его словно громом поразили официальное сообщение швейцарской полиции и арест Дитмана, подтвердившие его догадку.
Он думал, что для него такие слова и понятия, как беззаконие, нарушение человеческих прав, насилие, значили всегда больше, чем для других. После похищения Фридриха Беньямина он убедился, что раньше и для него это были лишь слова. Только теперь они стали реальностью. Он видел, он осязал беззаконие, оно хватало его за горло, душило. В третьей империи произошло немало гнусного, невообразимо жестокого, что близко коснулось его; у него были друзья среди убитых, среди заключенных в концлагерях. Все это бледнело перед похищением Беньямина.
Его охватила ярость против похитителей. Он ругался нещадно. Ругал и Беньямина. "В Базель ему приспичило, в пограничный город, этакий болван, этакий круглый идиот, этакая чугунная башка", - бранился он, и себя он ругал за то, что не отговорил его от поездки. Но несмотря на эту ругань, всю его неприязнь к Беньямину, добродушное презрение к его сибаритству, к рабской зависимости от Ильзы смыло без следа. Их сменила огромная щемящая жалость к исчезнувшему. Образ Беньямина с каждым днем становился для него все более светлым, ему казалось, что он в чем-то виноват перед Беньямином. Он смеялся над собой, но от чувства вины избавиться не мог.
В редакции ему отвели стол Беньямина. Это был видавший виды письменный стол, похожий на тысячи других, но он внушал Траутвейну, не знавшему ранее подобных ощущений, какой-то суеверный страх. Присутствие отсутствующего Беньямина он ощущал более непосредственно, чем это было когда-либо в действительности. Когда он садился за его стол, ему казалось, что в кресле сидит бесплотный призрак его предшественника. Он старался представить себе реального Беньямина таким, например, каким он сидел против него за столиком в ресторане "Серебряный петух", - жующим, вытирающим рот салфеткой, но ничего не выходило; даже этот смакующий вкусную еду Беньямин, живший в его воспоминании, становился бесплотным, от него исходил слабый зеленоватый свет, каким в детских пьесах, которые Траутвейн видел мальчиком, освещались привидения; этого Фридриха Беньямина и каждое его слово сопровождала, точно Каменного гостя, тихая, страшная, призрачная музыка.
Траутвейн никогда не любил Ильзу Беньямин, но он не мог забыть звука ее голоса, когда она сказала: "Помогите мне, помогите же мне". Этот голос каждый раз вновь жалил его и вновь вызывал сострадание и гнев. Ему мерещились караульные и полицейские, он видел, как они набрасываются на Фридриха Беньямина, видел этих тупых, грубых жителей деревень и городских предместий, откуда вербовались полицейские, которые теперь тешились над ненавистным евреем, давая волю своим темным инстинктам.
Так думал и чувствовал Зепп Траутвейн, когда Гингольд предложил ему окончательно занять в редакции место Фридриха Беньямина. Предложение это взволновало Траутвейна. Он знал: если он примет его, придется надолго забросить музыку.
Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов "Парижских новостей", он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увезенного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.
В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.
Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.