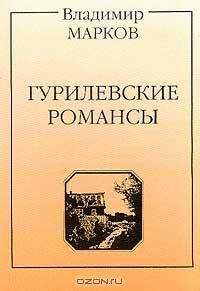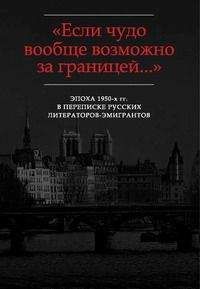Александр Дюма - Мертвая голова (сборник)
Весь первый акт Гофман не обращал внимания ни на оркестр, ни на актеров. Эта музыка была уже знакома ему, и он успел оценить ее при первом исполнении. До актеров ему и вовсе не было дела: он пришел не затем, чтобы смотреть на них, – он пришел ради Арсены.
Занавес поднялся во втором акте, и начался балет. Вся душа, все сердце, самое существо молодого человека изнывали в ожидании. Он предвкушал появление танцовщицы. Вдруг Гофман испустил крик: в роли Флоры, что должна была исполнять Арсена, предстала не она.
Появившаяся на сцене женщина была ему незнакома и ничем не отличалась от всех прочих. Тело Гофмана обмякло, он весь осунулся и, тяжело вздохнув, посмотрел вокруг себя. Доктор сидел на своем прежнем месте, только на нем не было его бриллиантовых пряжек, перстней и табакерки с мертвой головой. Пряжки его были медными, перстни – позолоченными, а табакерка – из гладкого серебра. Доктор ничего не напевал и не отбивал такт.
Как он здесь очутился? Гофман не мог этого сказать. Молодой человек не заметил, откуда он появился.
– О, сударь! – воскликнул Гофман.
– Лучше говорите «гражданин», мой юный друг, и даже обращайтесь ко мне… если можете, на «ты», – произнес в ответ доктор, – или моя голова слетит с плеч, впрочем, и ваша тоже.
– Но где же Арсена? – спросил Теодор.
– Арсена? Похоже, ее лев, не спускающий с нее глаз, заметил, как позавчера она переглядывалась с каким-то молодым человеком, сидевшим в креслах. Кажется, этот юноша даже осмелился преследовать их карету. Одним словом, вчера он разорвал контракт Арсены, и она не числится больше в театре.
– Но как директор мог это допустить?..
– Мой милый друг, директор больше всего дорожит своей головой, хотя стоит признать, что голова это прескверная. Но он привык к этой и считает, что другая худо у него приживется.
– Ах, боже мой! Так вот почему этот зал так мрачен сегодня! – вскрикнул Гофман. – Вот почему нет больше цветов, бриллиантов и драгоценностей. Вот почему вы сняли ваши бриллиантовые пряжки, перстни, вот почему при вас нет табакерки. Вот почему по обеим сторонам сцены вместо бюстов Аполлона и Терпсихоры стоят эти скверные пародии! Тьфу!
– Что вы такое говорите! – воскликнул доктор. – Где вы видели такой зал, что вы описываете? Когда вы видели на мне бриллиантовые пряжки и перстни? О какой табакерке вы толкуете? Где вы, наконец, встречали бюсты Аполлона и Терпсихоры? Вот уже два года прошло с тех пор, как цветы не цветут, как бриллианты превратились в ассигнации, а все драгоценные вещи расплавлены на жертвеннике отчизны. Что касается меня, то я, слава богу, никогда не носил других пряжек, кроме этих медных. У меня никогда не было другого кольца и другой табакерки. А если возвращаться к вопросу о бюстах Аполлона и Терпсихоры, то они, конечно же, были здесь прежде. Но друзья человечества разбили бюст Аполлона и заменили его своим наставником, Вольтером. Друзья народа разрушили бюст Терпсихоры, чтобы поставить на его месте свое божество – Марата.
– О! – воскликнул Гофман. – Это невозможно! Я говорю вам, что позавчера этот зал благоухал, пестрел цветами, ослепительными нарядами и утопал в блеске бриллиантов. Вместо этих площадных торговок в кафтанах и бродяг в простых куртках здесь сидели благородные дамы и господа. Я говорю вам, что на ваших ботинках были бриллиантовые пряжки, на пальцах – бриллиантовые перстни, а табакерку вашу украшала мертвая бриллиантовая голова. Говорю вам…
– А я, в свою очередь, хочу вам заметить, молодой человек, – произнес доктор, – что позавчера она была здесь, и ее присутствие преображало все вокруг. От одного ее дыхания вырастали розы, поблескивали бриллианты и драгоценности. Вы ее любите, юноша, вы смотрели на зал сквозь призму любви. Арсены тут больше нет, и ваше сердце мертво, в вашем взоре сквозит разочарование, и вы замечаете миткаль, ситец, толстое сукно, красные шапки, грязные руки и сальные волосы. Одним словом, вы видите свет таким, каков он есть.
– О боже мой! – вскрикнул Гофман, обхватив голову руками. – Неужели все так и есть и я настолько близок к сумасшествию?!
Кофейня
Гофман вышел из этого летаргического сна только тогда, когда почувствовал, что чья-то рука опустилась ему на плечо. Он поднял голову: вокруг было темно и тихо. Театр без огня казался остовом театра, полного жизни, который он видел прежде. Один сторож прохаживался по его рядам. Больше не было ни света люстр, ни оркестра, ни шума. Только чей-то голос шептал ему на ухо:
– Гражданин, гражданин, что вы здесь делаете? В Опере, конечно, иногда спят, но это не место для ночлега.
Гофман посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел маленькую старушку, дергавшую его за воротник сюртука.
Это была билетерша, которая, не зная намерений молодого человека, не хотела покидать зал, не выпроводив его.
Впрочем, пробудившись ото сна, Гофман не пытался сопротивляться. Он встал, тяжело вздохнув, и прошептал: «Арсена».
– Ах, да! Арсена, – повторила старушка. – Вы тоже влюблены в нее, как и все, молодой человек. Это большая потеря для Оперы, а особенно для нас, билетерш.
– Для вас? – переспросил Гофман, обрадовавшись в душе тому, что встретил хоть кого-то, с кем можно было поговорить о танцовщице. – Но почему? Что изменилось для вас с уходом Арсены?
– О, я вам объясню, это легко понять. На всех представлениях с ее участием зал был переполнен. Тогда начинали просить скамейки, стулья и табуреты, а в Опере за все платят деньги. Дополнительные сидячие места приносили нам маленький доход. Я говорю маленький, – прибавила старуха с хитрой улыбкой, – потому что, как вы сами понимаете, был и большой.
– Большой доход?
– Да. – И старушка подмигнула Гофману.
– А откуда же он брался?
– Его приносили те, кто пытался что-нибудь разузнать о ней, кто желал заполучить ее адрес или передать записку. Вы понимаете, что все это стоило денег: за рассказ о ней была одна цена, за ее адрес – другая, за письмецо – третья. Да, хорошие были времена! – И старушка вздохнула так же тяжело, как и Гофман в начале пересказанного нами разговора.
– Прежде вы брали на себя труд, – воскликнул юноша, – рассказывать любопытным разные подробности о ее жизни, называли ее адрес и передавали ей записки! Не сделаете ли вы то же самое и для меня?
– Увы, молодой человек, подробности, которые я могу сообщить вам теперь, будут для вас бесполезны. Никто не знает, где живет Арсена, и записка, которую вы для нее передадите, пропадет. Если вам угодно будет написать другой актрисе – госпоже Вестрис, мадемуазель Биготтини, мадемуазель…
– Благодарю вас, благодарю, я хотел знать только об одной мадемуазель Арсене.
Потом юноша вынул монету из кармана и дал ее старухе.
– Вот, – сказал он, – это за то, что ты потрудилась меня разбудить.
И, простившись с билетершей, он медленно побрел по бульвару, намереваясь идти той же дорогой, по которой шел позавчера, ведь его недавнее воодушевление, указавшее ему дорогу к Опере, иссякло. Душу его переполняли теперь совсем другие чувства, не те, что прежде, и это отражалось даже в его походке. В тот, другой, вечер он шел как человек, перед которым мелькнула надежда. И он погнался за ней, не задумываясь о том, что Бог даровал ей сильные и длинные крылья, для того чтобы смертные никогда не смогли ее настигнуть. Он бежал тогда с раскрытым ртом, из которого вырывалось жаркое дыхание, и распростертыми объятиями. На этот раз, напротив, походка его была медлительна, как у человека, напрасно кого-то преследовавшего и потерявшего его из виду, губы его были сжаты, лицо мрачно, руки безвольно повисли. В тот вечер он за пять минут добрался от площади Сен-Мартен до Монмартра, теперь же он преодолевал это расстояние более часа. Еще час юноша потратил на то, чтобы от Монмартра добраться до своей гостиницы. Он с головой ушел в свою печаль, и ему было все равно, вернется он домой рано или поздно, да и вернется ли вообще.
Говорят, что особое божество покровительствует пьяницам и влюбленным. Вероятно, оно благоволило и Гофману: ему на пути не встретился дозор, и он без всяких затруднений отыскал свою гостиницу. Молодой человек, к величайшему неудовольствию его хозяйки, вошел в комнату в половине второго ночи.
Однако посреди всего этого мрака в воображении Гофмана светилось маленькое золотистое пятнышко, подобно блуждающему огоньку в ночи. Доктор говорил ему, если, конечно, только этот доктор вообще существовал, а не являлся плодом его фантазии, что контракт Арсены с театром разорвал ее любовник. Он приревновал ее к молодому человеку, сидевшему в зале, на которого танцовщица бросала слишком нежные взгляды. Этот доктор прибавил еще, что ревность тирана достигла апогея, когда тот самый молодой человек, притаившись у дверей, ждал выхода актеров, когда он побежал, как сумасшедший, за ее каретой. А ведь этим молодым человеком, на которого Арсена так нежно смотрела, был сам Гофман. И за каретой бежал тоже он. Из всего этого выходило, что Арсена жестоко расплачивалась за его удовольствие, страдала из-за того, что заметила его. Да, он занял место в жизни прекрасной актрисы, конечно, он получил его через немалые огорчения, но все-таки получил – это главное. Теперь ему оставалось суметь удержать его за собой. Но каким образом? Какая ниточка свяжет его с Арсеной, как он даст ей знать о себе, как расскажет о своей любви к ней? Даже для коренного парижанина отыскать прелестную танцовщицу в этом необъятном городе стало бы непростой задачей. Для Гофмана это было почти невозможно: он прибыл в Париж только три дня назад и еще с трудом находил дорогу домой.