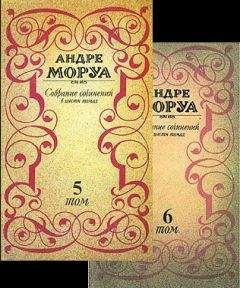Роже Гар - Семья Тибо (Том 1)
Ave Caesar!* Гляди, пред тобой синеглазая галльская дева.
______________
* Приветствую тебя, Цезарь! (лат.).
Для тебя - ее танец, воинственный танец ее покоренной страны!
Этот танец - как лотос в реке, и мерцает над ним
белоснежный полет лебедей.
Стан трепещет девический...
Император!.. Смотри, как сверкают тяжелые шпаги ее...
Это - танец поверженной родины!..
И так далее. А вот последние строки:
Что же бледнеешь ты, Цезарь?! Увы и еще раз увы!
В нежное горло впиваются острые кончики шпаг!
Падает кубок... Смыкаются веки...
Кровью горячей омыт удивительный танец
Вечеров, озаренных далекой луной!
Перед жарким костром, что трепещет у самого озера,
Умирает воинственный танец белокурой красавицы
На пиру императора!
Я назвал эту балладу "Пурпурный дар" и приложил к ней мимический танец. Его мне хотелось бы посвятить божественной Лойе Фюллер{71}, чтобы она исполнила его на сцене "Олимпии"{71}. Как ты думаешь, она согласится?
Тем не менее вот уже несколько дней, как я принял окончательное решение вернуться к правильному рифмованному стиху, которым писали великие классики. (Наверно, я пренебрегал этим стихом потому, что писать им гораздо труднее.) Начал работать над рифмованной одой, посвященной мученику, о котором я тебе говорил. Вот ее начало:
Преподобному отцу лазаристу{71} Пербуару,
принявшему мученический конец в Китае
20 нояб. 1839 г.
и причисленному к лику святых в январе 1889 г.
О мученик святой, чья горькая кончина
Пронзила трепетом весь потрясенный мир!
Позволь же мне тебя, великой церкви сына,
Почтить бряцаньем лир.
Однако вчера вечером мне стало ясно, что мое подлинное призвание писать не стихи, а рассказы и, если хватит терпенья, романы. Меня волнует один прекрасный сюжет. Послушай.
Она - девушка, дочь великого художника, родившаяся в углу его мастерской, и сама художница (в том смысле, что ее идеал не семейная жизнь, а служение Красоте); ее полюбил молодой человек, чувствительный, но из мещанской среды; дикарка покорила его своей красотой. Но вскоре они начинают страстно ненавидеть друг друга и расстаются, он живет целомудренной семейной жизнью с молоденькой провинциалкой, а она - разочаровавшись в любви, погрязает в пороке (или посвящает свое дарование богу, - я еще не знаю). Такова моя идея. Что ты об этом думаешь, мой друг?
Ах, понимаешь, не делать ничего искусственного, следовать своей натуре, и если чувствуешь, что ты родился быть творцом, то считать свое призвание самым важным и самым прекрасным в мире, и выполнить до конца этот свой великий долг. Да! Быть искренним! Быть искренним во всем и всегда! О, как неотступно преследует меня эта мысль! Сотни раз мне казалось, что я подмечаю в себе ту самую фальшь лжехудожников, лжегениев, о которой говорит Мопассан{72} в книге "На воде". Меня тошнило от отвращения. О, дорогой мой, как я благодарен богу за то, что он дал мне тебя, и как будем мы вечно необходимы друг другу, дабы до конца познавать самих себя и никогда не поддаваться иллюзиям относительно собственного призвания!
Обожаю тебя и страстно жму твою руку, как это было сегодня утром. Обожаю всем своим сердцем, которое принадлежит тебе безраздельно и страстно!
Берегись. Ку-Ку посмотрел на нас с подозрением. Ему не понять, что, пока он бубнит про Саллюстия, у кого-то могут возникнуть благородные мысли, которыми необходимо поделиться с другом.
Ж."
Опять от Жака; письмо написано в один присест и почти неразборчиво:
"Amicus amico!*
______________
* Друг своему другу! (лат.).
Мое сердце слишком полно, оно переполнено до краев! Оно пенится волнами, и все, что могу, я выплескиваю на бумагу.
Рожденный страдать, любить, надеяться, я надеюсь, люблю и страдаю! Повесть жизни моей укладывается в две строки: только любовь позволяет мне жить, и моя единственная любовь - это ты!
С самых юных лет ощущал я потребность разделить пыл моего сердца с сердцем другим, которое смогло бы понять меня до конца. Сколько писем написал я некогда воображаемому другу, который был схож со мною, как брат! Увы! Сердце мое в каком-то опьянении говорило, вернее, писало - себе самому! Потом внезапно господь захотел, чтобы этот идеал обрел плоть и кровь, и он воплотился в тебе, о моя Любовь! Как и с чего все началось? Теперь этого уже не понять: от звена к звену теряешься в лабиринте мыслей и не в силах найти начала. Но можно ли представить себе что-либо более одухотворенное и возвышенное, чем наша любовь? Я тщетно ищу сравнений. Рядом с нашей великой тайной все на свете бледнеет! Это - солнце, которое согревает и озаряет наше с тобой существование! Но этого не выразить на бумаге! Будучи написано, все становится похожим на фотографию цветка!
Но довольно!
Быть может, ты нуждаешься в помощи, в утешении, в надежде, а я посылаю тебе не слова ласки и нежности, а излияния эгоистического сердца, которое живет лишь ради себя самого. Прости, любимый! Я не могу писать тебе по-другому. Я переживаю трудное время, и сердце мое сейчас бесплодней и суше, чем каменистое дно оврага! Неуверенность во всем на свете и в себе самом - о, разве она не наихудшее из всех зол?
Презри меня! Не пиши мне больше! Полюби другого! Я более не достоин того великого дара, каким являешься ты!
О, ирония роковой судьбы, что толкает меня... куда? Куда? В небытие!!!
Напиши мне! Если я лишусь тебя, я покончу с собой!
Tibi eximo, carissime!*
Ж."
______________
* Без тебя, мой дорогой! (лат.)
К последнему листу тетради аббат Бино приложил записку, перехваченную учителем накануне побега.
Почерк был Жака - невообразимые каракули, нацарапанные карандашом:
"Людям, которые нас подло и бездоказательно обвиняют, - Позор!
ПОЗОР ИМ И ГОРЕ!
Вся эта возня затеяна из гнусного любопытства! Они запустили свои лапы в нашу дружбу, и это - низко!
Никаких трусливых компромиссов! Стоять с высоко поднятой головой! Или умереть!
Наша любовь выше клеветы и угроз!
Докажем же это!
Твой НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Ж."
VII
В Марсель они приехали поздно вечером в воскресенье. Возбуждение улеглось. Они спали, скрючившись на деревянных лавках, в плохо освещенном вагоне; гул поезда, входящего под своды вокзала, грохот поворотных кругов все это внезапно разбудило их, заставив вскочить на ноги; они сошли на перрон, моргая глазами, молчаливые, встревоженные, протрезвленные.
Нужно было найти ночлег. Напротив вокзала, под белым стеклянным шаром с надписью "Гостиница", хозяин ловил клиентов. Даниэль, державшийся увереннее, чем Жак, попросил две койки на одну ночь. Хозяин, недоверчивый по натуре, учинил допрос. Ответы были подготовлены заранее: на вокзале в Париже отец забыл чемодан и опоздал на поезд; он наверняка приедет утром, с первым же поездом. Хозяин посвистывал и глядел на них подозрительно. Наконец он раскрыл книгу регистрации постояльцев.
- Запишите свои фамилии.
Он обращался к Даниэлю, потому что тот выглядел старше, - ему можно было дать лет шестнадцать, - но главное, потому что тонкость его черт, благородство всего его облика поневоле внушали уважение. Войдя в гостиницу, Даниэль снял шляпу; он сделал это не из робости; у него была своя, особая манера обнажать голову и опускать вниз руку со шляпой; казалось, он говорит: "Я снимаю головной убор не ради вас, но потому, что люблю вежливое обхождение". Его черные волосы, аккуратно расчесанные, спускались челкой на очень белый лоб. Удлиненное лицо завершалось твердым подбородком, волевым и в то же время спокойным, лишенным какой бы то ни было грубости. Без малейшего замешательства, но и без тени бравады ответил он на все вопросы содержателя гостиницы и, не раздумывая, вписал в регистрационную книгу: "Жорж и Морис Легран".
- За комнату семь франков. Деньги - вперед. Первый поезд прибывает в пять тридцать; я к вам постучусь.
Они постеснялись сказать, что умирают от голода.
Обстановка состояла из двух кроватей, стула и таза. Войдя, оба ощутили одинаковую неловкость: раздеваться предстояло на глазах товарища. Сон как рукой сняло. Чтобы оттянуть неприятный момент, они сели на свои кровати и принялись подсчитывать капиталы. У них осталось на двоих сто восемьдесят восемь франков; эту сумму они разделили поровну между собой. Жак извлек из своих карманов маленький корсиканский кинжал, окарину{75}, французское издание Данте ценою в двадцать пять сантимов и, наконец, подтаявшую плитку шоколада, половину которой он отдал Даниэлю. Они сидели, не зная, что делать дальше. Чтобы оттянуть время, Даниэль стал расшнуровывать ботинки; Жак последовал его примеру. Наконец Даниэль принял решение; со словами:
- Ну, я гашу. Спокойной ночи, - он задул свечку.
Они быстро и молча легли.
Еще не было пяти часов утра, как в дверь постучали. Они бесшумно, как привидения, оделись, не зажигая света, в мутном мерцании первой зари. Хозяин сварил для них кофе, но боязнь, что им опять придется с ним разговаривать, заставила их отказаться; натощак, дрожа от холода, они пошли в вокзальный буфет.