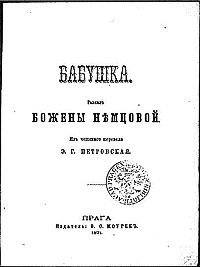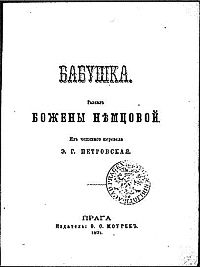Лион Фейхтвангер - Изгнание
Ухмыляясь, слушал Визенер у радиоприемника выступление своей жертвы, ухмыляясь, читал он ото выступление в газетах.
А позднее он даже увидел ее, свою жертву, собственными глазами. Гейдебрег, участник Нюрнбергского съезда, привез куски фильма, заснятого в Нюрнберге. Вскоре после своего возвращения в Париж он пригласил Визенера посмотреть выступление министра Кипнера, показанное в фильме.
Фильм демонстрировали в "Немецком доме". Зал был небольшой, но он казался большим оттого, что Визенер и Гейдебрег были одни; жужжание аппарата подчеркивало тишину.
На Гейдебрега этот заснятый на кинопленку съезд его партии произвел, пожалуй, большее впечатление, чем в натуре. Он смотрел на шествие знаменосцев, он смотрел на десятитысячные колонны по-солдатски марширующих молодых людей, он смотрел на фюрера, плотного и крепкого телом, на его энергично выброшенную вверх руку, на его любимое, грозное лицо воплощение полярных свойств немецкого человека: дисциплинированность символически выражали подстриженные усы, артистичность - начесанная на лоб прядь волос. Конрад Гейдебрег смотрел на самого себя, стоящего на трибуне среди приближенных фюрера. Нюрнберг. Великие дни. Пусть в деле Беньямина над интересами Германии взяло верх так называемое абсолютное право, этот бесплотный призрак, но второй раз, после нюрнбергской демонстрации немецкой мощи нечто подобное не повторится. Ибо теперь Германия вооружена так, что она повсюду и везде, где только понадобится, заставит уважать свое истинно немецкое правосознание, свой принцип: "Право есть то, что немецкому народу полезно".
И вот наконец кадр - выступление Кипнера. Это триумф Визенера. Он смотрел, как человек, которого он объявил убитым, для того чтобы покойник воскрес ad majorem gloriam tertii imperii [к вящей славе третьей империи (лат.)], действительно воскрес. На мгновение Визенер почувствовал легкую дурноту, точно от качки на море. Не все, конечно, так уж ладно с этим Кипнером, лучше не думать, какими средствами принудили его там сделать свое признание в пользу нацистов. И хотя вид у него, когда он стоял на трибуне, был более или менее здоровый, все же, как только он сошел с нее, этому здоровью, надо думать, пришел конец. Но все эти неприятные туманные картины быстро погасли.
- Ну, что скажете, mon vieux? - раздался в темноте голос Гейдебрега, и Визенер уже ничего более не чувствовал, кроме глубокой радости: маневр удался.
Ночью, когда он делал записи в своей Historia arcana, он не мог нахвалиться самим собой. "Хитроумный Одиссей", - подумал он и записал по-гречески, разумеется. Ему только досадно было, что нет здесь Леа или, по крайней мере, Марии: уж очень ему хотелось покрасоваться, порисоваться перед ними.
Назавтра среди утренней корреспонденции он увидел письмо, подписанное каким-то Гингольдом. Да, комбинация с "ПН" так далеко отошла для него в прошлое, что имя господина Гингольда совершенно забылось, и какую-то долю секунды Визенер всерьез напрягал память, стараясь вспомнить, кто яге это. Потом, разумеется, он вспомнил и самодовольно усмехнулся. Черт побери, теперь этим писакам крышка, теперь уж они действительно сброшены со счетов раз и навсегда. Их сокращенные названия, какие бы там ни были - "ПН" или "ПП", - никогда ни на минуту не лишат его больше сна. Он избавился от них, он высоко взлетел, так высоко, что им до него не дотянуться. Пусть они высмеивают Нюрнберг, пусть называют Нюрнбергский съезд, эту грандиозную демонстрацию сил возмужавшего народа, варварским, бредовым, пусть облаивают или вышучивают его, Визенера, статьи, - их писанина, эти беспомощные, академические сочинения все равно никого не трогают.
А почему не разрешить Гингольду явиться? Даже забавно, пожалуй; будешь глядеть на него, слушать, словно сидя в театральной ложе.
Шах Магомет прекрасно пообедал,
И духом он повеселел.
Знать, что эти писаки у тебя в руках, словно куклы в руках у ярмарочного кукольника, и смотреть, как извивается господин Гингольд, занятное будет зрелище.
Секретарь Лотта Битнер сообщила господину Гингольду, что мосье Визенер ждет его в четверг, в одиннадцать утра.
Гингольд стал еще чудаковатее, за ним замечалось теперь еще больше странностей. Вернувшиеся дети были глубоко встревожены его расстроенным, больным видом. Нахум Файнберг рассказал им, что произошло, и они решили не показывать отцу, что знают о его горе. В просторной квартире на авеню Великой Армии домашние его жили своей прежней шумной жизнью, кричали, ссорились, играли на рояле, канарейка Шальшелес пела. Для случайно зашедшего невнимательного человека дом был полон знакомых звуков давнишней бравурной симфонии. Гингольд только на короткие мгновения включался в эту жизнь, кричал так же, как все, сердился, но очень быстро умолкал и уходил в себя, в свои снедающие думы.
Из Берлина не было, можно сказать, никаких вестей. Его агенты и агенты Нахума Файнберга отделывались пустыми отписками. От Гинделе - ни строчки, и даже Бенедикт Перлес умолк, никто не знал, что с ним произошло. Молчание было мучительнее самой страшной вести. Гингольду казалось, будто его окружают толстые тюремные стены молчания, такого молчания, которого никакой шум, никакие крики в его доме не могли сломить.
Сообщение о передаче Фридриха Беньямина швейцарским властям озарило грозным светом тьму то лихорадочно-суетливого, то тупого отчаяния господина Гингольда. В газетных строках он услышал голос бога, обращающегося к нему. Бог подал ему знак, небесный владыка недвусмысленно показал ему, что правы были крикуны и наглецы, а он, Гингольд, не прав. Его убеждение, что нельзя в открытую идти на архизлодеев, а надо исподволь, хитростью перехитрить их хитрость, не оправдало себя, и прав оказался профессор Траутвейн с его грубыми, прямолинейными и нахальными статьями, с его вечным криком. Ах, лучше бы профессор не бросал своей музыки и не совал нос в дела господина Гингольда. Не везло Гингольду с музыкантами. В Париже - профессор Траутвейн, в Берлине - учитель пения Данеберг.
А тут еще обрушились на его голову нюрнбергские законы о евреях. Все, что до сих пор только практиковалось, нацисты подняли на высоту законоположения. Теперь репрессии против учителя пения Данеберга уже не произвол, они диктуются четкими параграфами закона. Какие же зверства ждут теперь его дитя, его Гинделе?
Были как раз "судные дни", дни больших еврейских праздников - Нового года и дня искупления грехов. Гингольд, раздираемый тревогой, с изболевшейся, разбитой душой, стоял в синагоге, как все, в талесе, наброшенном на плечи, и, холодея, слушал пронзительный зов шофара, ритуального рога. В день Нового года господь решает судьбы людей на весь наступающий год, вносит в большую книгу жизни ниспосылаемые им благодеяния и кары, кредит и дебет, а в день искупления грехов скрепляет эти судьбы печатью. Гингольд бил себя в грудь, каясь в грехах своих, склонял старые, негнущиеся, затвердевшие колени при одной мысли о неизрекаемом страшном имени господнем и был раздавлен сознанием собственного ничтожества. Он никуда не годен, и не только сердце у него плохое, но и голова никуда не годится, иначе он не просчитался бы так страшно.
- Не ради нас, о господи, - молился он, - а ради наших отцов и дедов, ради их заслуг, смилуйся. Кончается день, - молился он, обессиленный постом, покаянием и горем, так как день искупления был на исходе, кончается день, солнце повернулось на запад, ворота сейчас закроются, не запирай для нас ворота, смилуйся.
Нахум Файнберг уже не критиковал, своего хозяина, он его жалел. Он разведал, что не фон Герке скрывается за Лейзегангом, как он полагал раньше, а часто упоминаемый в последнее время господин Визенер. Визенер, как узнал Нахум, человек настроения, иной раз на него вдруг находит даже стих великодушия. Среди его любовниц есть еврейки. Неплохо бы встретиться с ним - повредить это никак не может.
Со времени душераздирающего телефонного разговора с отелем "Кап-Мартен" Гингольд не искал соприкосновения с архизлодеями. Вот и теперь, последовав совету преданного Файнберга, он написал письмо Визенеру, но никаких надежд на успех у него не было, даже ответа он не ждал. Тем сильнее удивило его приглашение явиться к Визенеру.
Час, который ему назвали, был довольно ранний. Дрожа от холода и от страха, обливаясь потом, волнуясь, ехал он к Визенеру. Визенер был еще не одет; он считал, что тратить время на переодевание ради какого-то там Гингольда не стоит. В широком, черном, дорогом халате, являя собой нечто среднее между римским императором и самураем, сидел он перед своим посетителем.
Гингольд вглядывался в лицо Визенера. Роскошный халат подчеркивал мужественность этого лица, вместе с тем мягкого и веселого; это было лицо человека, проникнутого сознанием своего торжества. И Гингольд подумал: "Что это значит? Передо мной лицо не архизлодея, передо мной человеческое лицо". И он вдруг решил отказаться от нечистого, недостойного дела с "ПН" и не вести с этим человеком долгой обходной тактики, а говорить честно, напрямик. Хуже, чем есть, не будет, и если он все же ничего не добьется, так, может, бог хоть сколько-нибудь смилуется над ним за отказ от "Парижских новостей".