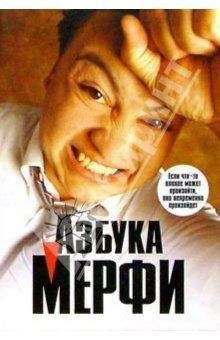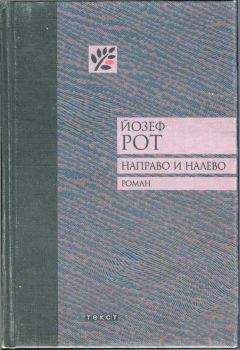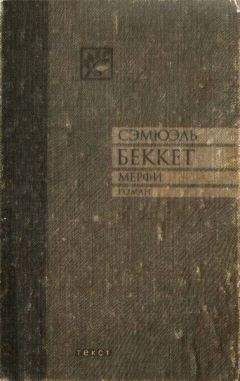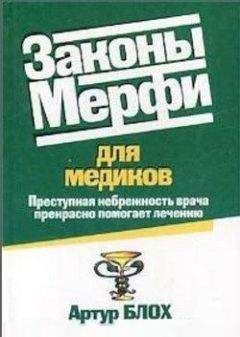Дан Маркович - Ант
Я пожал плечами - "ты ведь понимаешь, этого не могло быть."
Он замолчал, помнил мой отъезд, знал про ноги. Больше мы к этому не возвращались. У него в большой квартире чисто и уютно, жена давно ушла, он живет с сыном и тихой женщиной, почти прислугой. Те же книги, фотографии, что и десять лет тому назад. На особой полке братья Стругацкие, Азимов со своим концом вечности... Прекрасные сказки, которые красиво кончаются. Борис отступился от мечты, сдался, хотя в сущности своей, может, и не изменился. Нельзя так, нельзя... А я?..
Чем я лучше? Что со мной произошло после того вечера, когда бежал? Как я жил, в какие сказки верил?.. Ни во что не верил. "Не жди, не бойся, не проси..." Но я был обязан. Обязан был стараться, вечный пионер, забытый на своем посту. Должен стоять за тех, кто меня вытолкнул на поверхность, вышвырнул из темноты на свет, научил, сказал хоть раз доброе слово... Я не мог их предать, оставить в темноте и неизвестности.
Копошился, разгребал обстоятельства, многому научился, кое-что мог теперь делать лучше других. Побеждал свои ноги, вытрясал из себя страх, боль, не сдавался... И озлобился, окончательно потерял веру в разумность жизни, исчерпал силы... Вот так и жил.
В сущности все это были только слова, и говорились они, чтобы поддержать себя, придать разумный смысл, найти цель в том, в чем не было ни смысла, ни цели - на самом же деле меня вела слепая жажда жизни, а другая сила, гораздо сильней, но тоже слепая, засыпала меня, топила, а я вылезал, вылезал, вылезал... Но кто-то должен делать это, сопротивляться, когда рядом падают и погибают те, кто тебе дорог, и другие тоже, кто ненавистен, неважно, сопротивление важней любви и ненависти. Иначе жизнь прервется. Жизнь должна стоять на ногах, а не бессильно барахтаться в болоте слепых сил. Не знаю, почему, но я в этом уверен. Может, есть смысл в моем противостоянии, может его и нет, но это уже ничего не изменит.
11.
Я пришел на могилу. Отвязался от Бориса, притащился один. Ну, холмик.
Что, Лида, как тебе здесь лежать? Разговоры с самим собой, ничего здесь нет. Я с детства ощущал каждым нервом, как жизнь хрупка, но с такой отчетливостью и страхом не воспринимал бы это, если б не мое уродство, о котором Лида так безжалостно напомнила мне. Безжалостно, но справедливо.
Она не протянула мне руки и правильно сделала. Она была мне нужна, и я цеплялся за нее, чтобы удержаться на ногах, как когда-то вцепился в дерево, полз вверх по старой коре, обдирая в кровь пальцы. Нельзя ползти по людям. Больше я так не делал. Как-то, еще в начале, она говорит:
Ты сам не понимаешь, как хочешь сбежать от меня..." А я ей:
Ничего подобного, это ты бежишь...
-Ты мальчик, - она говорит, - куда тебе жениться. Ты вечно будешь таким, а я всерьез хочу жить.
- Сервант, комод? . . .
- И сервант, и комод, и машина... и дети... Что ты думаешь о детях?
Ничего я не думал. Я не выдержал бы этого, тайный инвалид, до поры до времени скрывался и надеялся, что так можно всегда. Если б она увидела мои ноги... И минуты бы рядом не стояла. Ничего, ей вовремя сказали, вовремя, и я знаю, кто это сделал. Но уже значения не имеет. Я должен был понять она не для меня, и уйти. А я не мог этого стерпеть и вернулся. Я был сильно привязан к ней, не мог расстаться. То, что потом с ней случилось, было ужасным совпадением, и насмешкой. Я не убивал ее, но развязал руки случаю, расчистил ему дорогу, это правда. Если у него есть руки. Ноги у него, уж точно, есть. Это я-то, всю жизнь воевавший за справедливость, против безумия слепых сил. Всю жизнь считал, что мне не повезло, жизнь обошлась со мной хуже, чем с другими.
Оказывается, вот кому не повезло - ей, а я выжил. Не знаю, что дальше, но все равно хочу жить. И должен сделать что-то за всех, кого знал, кто не успел... За мать, Семена, Ефима... и Лиду.
12.
На обратном пути еще в поезде почувствовал, с ногами происходит что-то необычное. Щупал, тайком осматривал, но ничего не обнаружил, беда медленно просачивалась изнутри, пробивалась на поверхность. На багровом бугристом мясе по-прежнему ажурная белесоватая пленочка. К вечеру боль стала нестерпимой, мне бы срочно уединиться, поднять повыше ноги, заняться примочками, о которых знал больше всех, и что помощи немного... Поезд медленная мука, пытка станциями, яблоки, картошка, радостные лица... Потом вокзал, автобус, ужас перед ступенькой-обрывом, железом, угрозами, пинками в спину... Я должен был собрать все силы, их почти не было. Лида истощила меня. Спокойный холмик.
Все перевернулось, обида давно забыта. Я оттягивал свое признание, она свое. Я бы никогда не женился, она бы никогда не вышла за меня. Как же так случилось?.. Я не виноват!.. Скажи кому-нибудь другому.
Наконец доехал, добрался, доплелся, хорошо, что темно, странный городок - пустыня. Вложил ключ в замочную скважину, дверь поняла знак, дрогнула, отворилась. Вошел в свое убежище, в темноту, тишину, тепло, и замер. Оторвали мишке лапу. Заживет, заживет... Что бы ни было, дом меня согревал. Сел на пол, спиной прислонившись к теплой батарее и задремал. Часа в два ночи проснулся, перебрался на кровать. Утром, встав, обнаружил два свисающих с пяток ажурных розоватых чулка, слезла тонкая кожица, защищавшая меня несколько лет. Я сдернул ее без всякой боли, и страха не было. Даже успокоился, больше ничего не произойдет.
13.
И действительно, события на время успокоились, я выплыл из водоворота, в который попал. Стало ясней и больней жить, но возникла новая ступенька на том откосе, обрыве, на который я то карабкался, то скатывался с него вниз. Мне подбросили несколько лет, подачка, и все-таки, хорошо.
Свободная походка все трудней давалась мне, я все чаще скрывался от людей, запирался дома, пока не кончались запасы еды. Выбирался, когда все крупы сгрызены, крошки подобраны... Я решился написать еще одну вещь, свести все счеты, не приукрашивать, не прятаться. Засыпал, где и когда заставал сон, ночью, часа в три, просыпался отдохнувшим, смотрел в окно и мне хотелось выйти из дома, идти, не притворяясь легким и раскованным. Особенно хорошо и спокойно в сентябре, тихими осенними ночами, еще теплыми и сухими. Мой самый длинный путь, тропинка в зеленой зоне между Институтами и нашим жильем. У нас вольготно березам, осинам, есть немного елей, а здесь я нашел место, где давным-давно посажена и выжила сосновая роща, десяток хиленьких корявых стволов. Им плоховато, они любят сухой песок, вереск, другой воздух, ветер... Я ходил между ними, касался ладонями липкой шершавой коры. Впечатления детства врезаны навечно. Лучше сказать, до конца, в нас нет ничего вечного - слишком мелки и ненадежны, слабосильны для вечности. Природа права, нам хватит, успеваем нахлебаться. Как я ни искал в себе признаки вечного устройства, так и не нашел ничего, что бы стоило сохранить дольше разумного предела.
Пружинит почва с желтыми крупными иголками, тишина... дышат сосны, особый скрип. И особый, конечно, запах. Я прихожу сюда почти каждую ночь. Вспоминать не хочу, но здесь мне спокойно. Как-то под такими же соснами... Она говорит - " Я умру, с кем отец останется..." А я ей - "Ты что! Раньше его собралась?" И смеюсь. И она засмеялась, странно, неуверенно, что ли...
Кругом никого, тропинка - туннель, вдали арка, выход к пространству, небу со следами света, желтоватому теплу, спящим полям, осенней реке внизу.
14.
В то время я переводил зубодробительный текст, инструкцию по содержанию животных, и уставал от мелкого птичьего языка, терминов, которые не только раздражали меня, но и подавляли. Я всегда дружелюбно относился к зверью, а теперь и вовсе противопоставлял их людям - они просты, бесхитростны, естественны, в их отношениях друг к другу, порой жестоких, порой самоотверженных, я видел примеры того, как природа обходится без выдумок вроде кодексов, правил, запретов и морали. Они знают, что нужно делать, и что нельзя. Кот не убьет кота, такого я никогда не видел, хотя драки между ними бывают страшные. Побежденному дают уйти. Лучше впечатанные, врожденные правила, чем хитроумные запреты, с которыми можно спорить, отвернуться и нарушить. Поступки животных всегда соразмерны силам и возможностям, их останавливает инстинкт. Бывает, слабых оттесняют от еды, но чаще коты уступают кошкам и котятам, нерассуждающее правило жизни... То, что мне приходилось переводить - иезуитские тексты, правила обращения с несчастными зверями, обреченными умереть ради нашей пользы. Никто не спрашивал - а можно ли?.. Все это меня возмущало.
К тому же я запутался в прозе. Мой язык запутался в объяснениях. Я стремился к прозрачности и простоте, но если нет ясности в мыслях, силы и достоверности в чувствах, ничего путного не выйдет, жонглирование словами не спасет. Текст может восхищать красотой и пряностью описаний - сначала, а потом вытолкнет: читателю нет места, тоскливо среди обилия пустых слов. Мои рассказы, простые и незамысловатые, кончились, теперь я писал сложней, длинней, с обилием раздражающих фантазию деталей, расплывался по страницам, не способный закончить дело ясной, окончательной точкой, которую раньше умел ставить. Легкость и недосказанность проиграли тяжести. Мои ноги проникли в прозу. Я вперся в нее своими ногами.