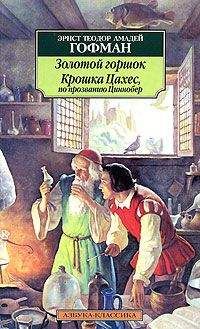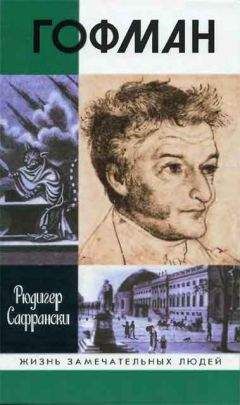Франчиск Мунтяну - Статуи никогда не смеются
— Несчастные! — простонал Василикэ Балш. — Вы с ума сошли?!
— Замолчи! — крикнул Хорват. — Еще слово и пристрелю!
Василикэ Балш встал на колени и принялся громко молиться.
Военный парад отменили, был отдан приказ обыскать соседние дома. Солдаты начали с того, что перебили все витрины.
Сверху город был похож на муравейник. По улицам носились мотоциклисты, раздавались выстрелы, слышались крики. Герасим сквозь дыру в крыше смотрел на серую опустевшую улицу, на суету немцев. Вдруг собор задрожал и город погрузился в непривычную тишину. Донеслось лишь эхо мощного взрыва.
— Мост! — закричал Хорват.
Глаза его засверкали, как будто в озарении пламени.
— Ты слышал? Мост, — повторил он, обращаясь к Герасиму, словно тот мог не слышать взрыва. — Вику взорвал мост!
Бэрбуц тоже подошел к Герасиму.
— Может, теперь про нас забудут.
Герасиму стало жаль его. Ну, конечно, он думает о своей жене и сыне. Герасим хотел было подбодрить его, но тут раздались удары в дверь. Даже Хорват вздрогнул. Когда удары повторились, он сделал остальным знак не двигаться с места.
— Немцы? — едва слышно спросил Герасим.
Хорват кивнул. Албу испуганно выпустил оружие из рук.
Удары в дверь стали сильней, послышалась отрывистая, лающая команда.
Бэрбуц бросился в дальний угол чердака, но тотчас же вернулся и испуганно прошептал:
— Другого выхода здесь нет.
— Знаю, — ответил Хорват. — Лестница только одна.
Снаружи кто-то начал стучать в дверь прикладом. Герасим сжал в руках карабин.
— Нет, — сделал ему знак Хорват. — Это совершенно бессмысленно. Спрячьте оружие.
Василикэ Балш забрался на боковую балку, но потом, недовольный убежищем, спрыгнул на пол и заметался по чердаку. От страха у него дрожали губы, он едва держался на ногах.
В дверь колотили все сильнее.
— Никакого сопротивления, — приказал Хорват, — иначе нас пристрелят на месте.
Герасим подошел к нему и протянул руку. Хорват, как будто сейчас это было самым важным, пожал ее сильно, по-мужски.
Под ударами немцев замок поддался, и в дверях появились дула автоматов.
3
Материю, которой был обит кабинет Вольмана (имитация китайского шелка), выткали на его собственной фабрике. Для этого пришлось разобрать и заново собрать два ткацких станка, чтобы на них можно было выткать шелк шириной в пять метров, как раз такой, какой требовался для кабинета. С двумя французскими ткачами, привезенными специально для выполнения этого заказа из Лиона (они пристрастились к румынской цуйке и все время ходили пошатываясь), расплатились по-царски. Барон, довольный их работой, предложил им контракт на пять лет и баснословное жалованье, но иностранные мастера отказались.
Теперь, через десять лет, обивка поблекла и, если бы сняли картины, на стенах остались бы пятна. Поэтому картины продолжали висеть на своих прежних местах; никогда не передвигалась и мебель, защищавшая шелк от действия времени и пыли. Но это касалось не только картин и мебели. Все вещи в кабинете Вольмана имели свои узаконенные места, словно это были ценные реликвии, перемещение которых подвергло бы опасности самое их существование. Барон и его дочь Клара твердо придерживались этого. Усвоил эти неписаные правила и Вальтер; из всех слуг только он один допускался в эту комнату. Поэтому ни за что на свете он не сдвинул бы даже на сантиметр ни один предмет на письменном столе барона. И не из опасения, что барон заметит, а в силу строгой прусской выучки.
В этом отношении комната Клары представляла собой полную противоположность: здесь не было ни одной мелочи, которая не сменила бы свое место три раза за день. Сейчас из этой комнаты в кабинет барона доносился шум.
Вольман, прислонившись к массивному письменному столу, внимательно смотрел на слугу, выглядевшего, как всегда, безукоризненно, и молчал. Ему казалось, странным, что с тех пор как он знал Вальтера, он никогда не видел, чтобы у того была оторвана пуговица или испачкана одежда. Более того, Вальтер никогда не опаздывал, и барон не помнил, чтобы он самовольно отлучался из дома. Не было еще такого случая, чтобы в любой час (будь то шесть утра или два часа ночи). Вальтер не пришел на звонок. Вольман пытался следить за ним, особенно в первое время, чтобы уличить его в том, что он не выполнил какого-нибудь поручения. Разумеется, безуспешно. Вальтер был безотказен и пунктуален, как швейцарские часы. Даже выведать у него ничего не удалось: на все вопросы о его жизни, желаниях, мечтах Вольман не получил никакого ответа, и это его раздражало. Поэтому он до некоторой степени чувствовал превосходство Вальтера над собой. После того как он застал его в комнате Анриетты, у барона часто возникало намерение уволить слугу, но каждый раз он передумывал: другого такого камердинера, как Вальтер, он никогда бы не нашел. Вальтер говорил почти на десяти европейских языках и одинаково хорошо играл как в покер и шахматы, так в теннис и кегли. Никто в доме не видел его грустным или веселым. Вальтер всегда был серьезен и готов выполнить любое приказание. Сейчас, когда он стоял у двери в ожидании вопросов барона, во всей его позе было что-то подчеркнуто официальное, какая-то военная выправка.
— Ты вызвал коменданта города?
— Да, господин барон. Он придет в час.
Вальтер обладал еще одним редким качеством. Он был информирован, как газетное агентств^. В доме, на улице, в городе или в мире не происходило ничего, о чем бы он не знал. Если бы в шутку спросить его: «Как ты думаешь, Вальтер, будет завтра дождь?», — он ответил бы не задумываясь: «Барометр показывает ясно, значит будет хорошая погода». Вначале такая осведомленность Вальтера забавляла Вольмана, потом он стал относиться к ней серьезно, а в последнее время широко пользовался ею.
— Что слышно в городе?
— Все в порядке, господин барон. Евреи эвакуированы в Орадю. Те, кто принадлежит ко второй категории, носят звезды. С сегодняшнего дня пошли трамваи.
— Комендант знает, что я еврей?
— Вы — барон, господин Вольман.
— Хорошо, Вальтер. Что делает Клара?
— Скучает, господин барон.
Вольман невольно бросает взгляд на письменный стол, где под толстым стеклом — изделием какого-то венецианца — лежит вечный календарь. Вальтер, проследив его взгляд, опускает глаза.
— Разрешите мне уйти?
— Иди, Вальтер.
Барон подождал, пока за Вальтером закрылась дверь, надел очки и сел за стол. Возле вечного календаря на невысокой серебряной подставке стояла черная статуэтка Будды: легкая, невероятно самодовольная улыбка тронула губы бога. Вольману нравилось играть статуэткой, может быть, еще и потому, что это была память об Анриетте, — единственная ее вещь, которая осталась по его мнению, незапятнанной.
В одном из потайных ящиков стола лежало несколько писем Анриетты и дневник, который она вела, словно школьница, и который он нашел только после ее смерти. Тогда он понял, что Анриетта хотела гораздо меньшего, чем он ей дал, и гораздо большего, чем он мог ей дать.
Вольман посмотрел на часы, стоявшие на столе. До приезда коменданта города оставалось три четверти часа. Он достал из кармана пиджака ключик и отпер ящик, где лежал дневник. Это была небольшая книжечка, обыкновенный блокнот в замшевом переплете. Каждый раз, перелистывая его, он досадовал, что не хватало первых пятидесяти девяти страниц, исписанных до знакомства с ним. И все-таки он говорил себе с некоторым удовлетворением, что для Анриетты его появление ознаменовало начала новой жизни. Розовые листочки фирмы «Лейкман» с тремя звездочками ласково шуршали под его пальцами, словно молодой тростник.
11 марта
Сегодня за обедом отец объявил мне, что в четыре часа я должна буду выйти замуж. Я спросила, за кого, и он мне ответил: «За текстильного фабриканта». Интересно, как выглядит мой текстильный фабрикант? Знает ли он меня? Известно ли ему, что я больна?.. Еще два часа, и я стану женой текстильного фабриканта. Только бы он не был похож на отца и не был старым. Господи, почему у меня не хватает мужества бежать… Пойду к маме, может быть, она сможет что-нибудь рассказать о нем.
Мама тоже только сегодня узнала, что я должна выйти замуж. Она знает лишь, что он откуда-то с Балкан. Возможно, грек или болгарин… Может быть, он даже не говорит по-французски… Может быть, у него целый гарем… Тогда я выброшусь в окно. Да и отец лопнет с досады…
12 марта
Я очень счастлива. Пожертвую все накопленные деньги деве Марии. Он молодой и красивый. Даже в мечтах я не могла представить себе более красивого мужчину. Он из Румынии. Я посмотрела на карту. Нашла эту страну. Мне нравится Румыния. Поеду с ним и никогда больше не вернусь домой. Когда я его увидела, я не хотела верить своим глазам; я так разволновалась, что не могла сказать ничего путного. Только бы он не подумал, что я дура. Господи, только бы он не передумал. У него серые глаза и широкий лоб… Такого широкого лба я еще не видела ни у одного человека.