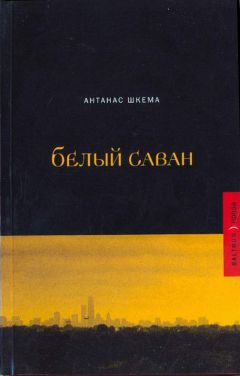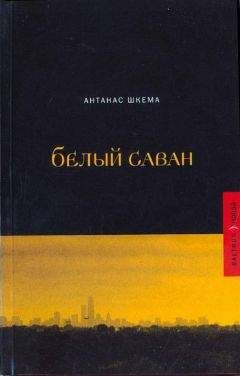Антанас Шкема - Белый саван
— Простите. Я поэт, но иногда проглядывают и черты закоренелого прозаика, — тихо проговорил Гаршва.
Эляна не ответила. Два жирных голубя разгуливали по дорожке, лениво воркуя нутром, словно беременные женщины. Чернявый пацаненок, как сумасшедший, пронесся на красном велосипеде. Назойливо поблескивала брошенная неподалеку серебряная бумажка от конфет.
— Расскажите мне о своем Вильнюсе, — попросил Гаршва. У Эляны были мокрые ресницы. Она сидела все так же откинувшись, и на плотно сомкнутых губах поигрывала жалкая улыбка, вернее, то, что осталось от былой улыбки.
— Вы ошибаетесь. Меня отнюдь не разочаровали ваши стихи и статьи. Это уже моя вина. Из-за них меня начинает волновать мое прошлое. Когда я смотрела ваших художников и воспринимала ваши образы, мой Вильнюс проступал еще отчетливей, и мне делалось больно. Я верила: мои воспоминания будут утешать меня до самой смерти. Ваше творчество заставляет страдать. Оно — как кипящее масло, пролитое на раны.
— Вы — мой второй читатель.
— А кто первый?
— Я сам.
Эляна поднимается, но жирные голуби не из пугливых. Голуби ворочают своими головками, выставив коричневые глаза-пуговки.
— Мне пора домой, — говорит Эляна.
— Вы так и не рассказали, — по-прежнему сидя на скамейке изрекает Гаршва. Эляна разглаживает складки своей клетчатой юбки.
— Я пойду. Надо купить кое-что, обед сварить.
— Вы так и не рассказали, — стоит на своем Гаршва. Он уже тоже вскочил. Один из голубей зашагал вперевалку прочь, другой продолжал таращиться своими пуговками.
— А вы оставайтесь. Вернусь одна.
Эляна склонила голову. На изгибе шеи у нее темнела родинка, словно птичий глаз.
— Извините. Не могу больше. Может, как-нибудь в другой раз.
Гаршва увидел, что ресницы у Эляны увлажнились еще сильнее. Он взял ее за руку, и она не отдернула руку.
— Завтра? — одними губами спросил Гаршва.
Голуби улетели. С игровых площадок доносились глухие удары мячика о цементную стенку, солнце уже переместилось, все еще поблескивала серебряная бумажка, посверкивали узенькие лестницы на цистернах, и Эляна наконец отозвалась на его вопрос вопросом.
— Это обязательно?
Гаршва посмотрел на ее теперь уже сухие глаза, и ответ как раз совпал с ударом мяча.
— Обязательно.
— Когда?
— Завтра я работаю после обеда, с четырех тридцати. Если в десять часов вам подойдет…
— Буду ровно в десять, — произнесла Эляна, и Гаршва выпустил ее руку. — Не провожайте. Хочу вернуться одна. Прощайте. Я знала, что придете, — неожиданно сказала она.
И ушла. Мелкими торопливыми шагами. Клетчатая юбка шуршала издалека. Антанас Гаршва не отводил глаз от ее серых волос и белой блузки. Пока Эляна не скрылась за поворотом на Bedford Avenue.
Антанас Гаршва выпускает из кабины лифта боксеров-перестарков, они вываливают гурьбой. Боксеры ездят с этажа на этаж с бутылками виски и гостят одни у других в точно таких же однокомнатных номерах. Они нарочито громко хохочут и, сжав кулаки, имитируют удары, достававшиеся им или их противникам несколько лет назад. Один из мужчин, крепыш с приплюснутыми ушами и узеньким лбом, выходя, в шутку бьет Гаршву по плечу. Тот извивается всем телом, делает выпад и упирается кулаком в грудь крепыша. Приятели заходятся от смеха: «Молодец, парень! Врежь ему. У нас он целовал пол во втором раунде». Кто-то сует Гаршве в руку 25 центов. Боксеры удаляются по коридору, покачиваясь из стороны в сторону, и чувствуют себя от выпитого виски все еще молодыми и сильными. Гаршва закрывает дверь лифта.
8
В первый год прихода большевиков стихи и статьи Антанаса Гаршвы советские газеты и журналы просто-напросто не печатали. Творчество его именовалось реакционным и формалистским. Гаршва с отцом жили в летнем домике в Аукштойи Панямуне. Домик был небольшой. Четыре комнаты, кухня, крытая застекленная веранда. Две комнаты снимали у них землемер с женой — молчаливые люди, игравшие в свободное время в шахматы.
Отец Антанаса слонялся по саду, долго стоял под грушами (выписанными когда-то из Дании) и трогал еще незрелые плоды. Большевики лишили его пенсии, как кавалера ордена Гедиминаса, который высокопоставленные чиновники Литвы обязаны были покупать. Отец мало разговаривал с Гаршвой. Это его ощупывание плодов являлось своеобразной медитацией, продолжением того, что происходило с ним раньше на берегу Немана, когда он глядел на Пажайслис. Там теперь предавались медитации русские солдаты с винтовками и штыками, стоило кому-нибудь приблизиться, как они кричали: «Прочь!» Отец больше не брал скрипку. Она пылилась на стене, и когда однажды отец ненароком тронул струны, звуки отозвались, наверное, в его сердце, потому что отец сморщился, как будто наелся кислятины, а потом, приложив руку к груди, прошествовал в сад — эдакий старомодный кавалер с любовным посланием наготове.
В тот тихий летний вечер Антанас Гаршва сидел на застекленной веранде и писал. Перед ним росли кусты акации, деревянный забор отделял маленький мирок летнего дома от притихшей улицы. Светила лампа под абажуром в форме колокола, стоявшая на столе «на козьих ножках». В вечерней тиши заливался соловей.
Гаршва размышлял о том, что эти трели, жизнерадостные и мелодичные, многими поэтами немилосердно эксплуатировались, о них написано столько слащавых строк. Ему вспомнилось, как отец напевал, бывало, старинные литовские многоголосые хоровые песни, искренние, чистые по своей лирической атональности. Край был придавлен крепостным правом, и позже освобожденные рабы сумели-таки конкурировать с господами: они стали гармонизировать свои песни и переместили трескучий Олимп на север. Пяркунас, Пикуолис, Патримас, всякие жрецы и жрицы, импровизированные боги и их слуги срочно рядились в литовские национальные одежды.
Lole palo eglelo
Lepo leputeli,
Lo eglelo,
Lepo leputeli.
Звенели канклялес[42]
Lioj ridij augo.
На старинный лад щелкал, заливался соловей. Иегова забыл этот край. Все свое внимание Он сосредоточил на Малой Азии.
Комната была побелена. Простой некрашеный стол стоял у окна. Два стула. На гвозде висела шляпа из плохого фетра с изогнутыми полями. Антанас Гаршва разглядывал тяжелое пресс-папье с прожилками из искусственного мрамора. И рядом на столе стояла чернильница, вся в пятнах.
* * *В непроходимых болотистых лесах — треугольные ели, шпили литовских храмов поднимались к звездам. Здесь собирался скользящий туман: ведьмы с растрепанными косами; маленькие оборванные домовые; свистящие в воздухе айтвары; выбравшиеся из земли духи, хранители здешних мест. Абстрактные боги, олицетворяющие природу, каждую секунду меняющие свое обличье.
Lole palo eglelo Lepo leputeli, —
заливался соловей. Оставалось забраться в лесную чащу и глядеть во все глаза, как елозят по земле ужи, таращиться на этот змеюшник. Оставалось, не раздумывая, погрузиться в долгую медитацию. Слова обретали значение магических формул. Таких же непонятных и значительных, как, например, рождение тумана. Оставалось следить за острыми языками пламени и поддерживать вечный огонь, пламя освещало ели — часовни, а храмом была вся огромная, необъятная земля. Родиться, жить, умереть. Раствориться в тумане, сидеть на высоких скамьях и иногда блуждать по знакомым местам — лесам и болотам.
А если накатывали вдруг страх и тоска, можно было вырезать из дерева странноватые фигуры, сильно напоминающие людей, и ставить их вдоль дорог. Тоскливый страх обнаруживал себя в продольных морщинах, в укороченном теле, в стойкой приверженности земным делам. Эти деревянные скульптуры, естественно, не конкурировали с природой. Человеческие черты проступали в сплетении узловатых стволов, в цепкой хватке корней, в течении рек и озер. Все вокруг было зачаровано. Печаль и страх охраняли живых.
Звенели канклялес.
Lioj ridij augo, —
заливался соловей.
Медовые соты, ржаные колосья, рута, тюльпаны и лилии. Ленивые сладкоежки медведи. Сосновая смола — золотой янтарь, пена Балтии, и янтарный песок, медлительно всасывающий эту пену.
* * *Гаршва еще раз вытер тыльной стороной ладони текущую из носа кровь. Он поглядел сначала на свою измазанную руку, потом на чернильницу. Чернильница была наполнена до краев черными чернилами. Симутис тяжело дышал.
— В Неман выбросил, да? Выходит, прав Зуйка. Хорошо еще, что ты идиот. Только идиот и может в то же утро потащиться на автобусную станцию.
— У меня было две недели сроку, — шмыгая носом, ответил Гаршва.
— На веранде, — уточнил Симутис.
* * *Калитка распахнулась. Двое мужчин поднялись на веранду и остановились перед Гаршвой. Два зеленоватых силуэта, освещенных настольной лампой. И древний мир тут же канул в небытие. Антанас Гаршва поднялся, упираясь руками в столешницу.