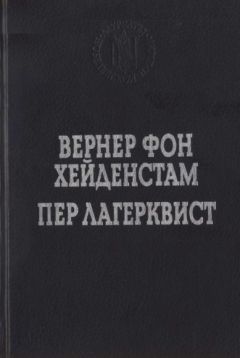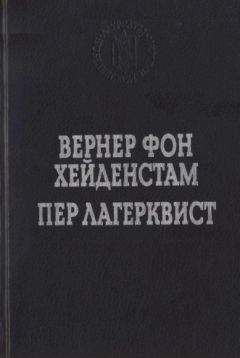Пер Лагерквист - Улыбка вечности
И вот они снова шли и шли во тьме. Но теперь этот людской океан уже не волновался и не шумел, как то было на пути к богу, теперь он обрел покой. Неспешно ступая, молча шествовали во тьме эти неутомимые странники. Все головы были высоко подняты, все глаза широко открыты. Они шли воодушевленные, напряженно обдумывая то новое, что открылось им. Все пережитое ими во время свидания с богом, где ясное и понятное смешалось с загадкой и тайной, понемногу определялось и укладывалось у них в голове, оседало в душе - загадочное находило свое место в глубине, ясное и понятное оставалось на поверхности. Каждый думал о своем, каждый был наедине с самим собой. Но, размышляя о своем, каждый ощущал свою общность со всеми и, будучи предоставлен сам себе, был в то же время среди своих.
И понемногу, исподволь, по мере того как они продвигались вперед, такие разные сосуды наполнялись одним и тем же содержимым. И кто горделиво, кто смиренно, несли они, боясь расплескать, это содержимое - в сосудах благородных форм, придававших благородство и тем, кто их нес, либо в совсем простых, подобных тем глиняным кувшинам, с которыми ходят к горному источнику деревенские женщины, когда пересыхает летом их колодец в долине; они несли свое богатство, и было оно одинаково у всех. Мало-помалу преисполнились они все одинаковой душевной ясности, надежды и света.
И тогда они заговорили, каждый о своем, но обращаясь ко всем остальным - им хотелось быть услышанными и понятыми. Они говорили друг с другом как братья, просто и спокойно, делясь своими чувствами и мыслями по мере того, как, вызрев, они обретали определенность. Они говорили друг с другом как прежде, только гораздо спокойнее. И они не были теперь столь многословны и не употребляли таких громких слов: они не изливали душу, они делились только своей верой, тем, что принадлежало всем.
Среди них шел один человек, по лицу видно было, что он уже довольно стар, но голову он держал очень прямо, решительно глядя вперед, готовый преодолеть какой угодно путь; он сказал:
Я принимаю тебя; дорогая жизнь, такой, как ты есть, потому что никакой иной представить тебя все равно невозможно.
И он продолжал идти - со всеми вместе, молча, слушая других.
И на земле столетия сменялись столетиями, тысячелетия - тысячелетиями, поколения - поколениями; они ничего про это не знали, им это было неведомо. Они шли и шли, бок о бок, плечом к плечу.
Другой, шедший далеко позади первого, сказал:
Я верю в жизнь со всем хорошим и плохим, что в ней есть, я благодарен ей за все. Я благодарен ей за тьму и свет, за сомнение и веру, за вечер и утро. У меня есть что-то одно, у моих братьев все остальное.
А еще один, который жил, замкнувшись в себе, теперь же, освобожденный, шел вместе со всеми, как один из многих, сказал, выразив новую свою веру, придавшую ему силу и уверенность:
Всякая подлинная жизненная судьба для человека - клетка, потому что она предлагает лишь один вариант, потому что границы ее жестки и определенны, и чем жестче ее границы, тем острее дает она почувствовать простирающуюся за ними беспредельность.
И все же теперь, когда я обрел душевный покой, я знаю: именно в заключении воспаряет человеческий дух.
Еще один сказал:
Я благодарен жизни за все мои беспокойства, подарившие мне покой. Я благодарен за все мои страхи, открывшие мне ту истину, что страх не есть что-то, исконно мне присущее, от меня неотделимое.
Исконно тебе присущее знаешь и без опыта: море и в затишье, в отсутствие шторма, знает о темных своих глубинах.
Так они говорили друг с другом.
Но еще один сказал:
Пастух пас в горах свое стадо, когда где-то там, в глубине, начала клокотать лава, готовая разрушительной силой вырваться на поверхность. Он ничего не знал о происходящем, поэтому он был спокоен. Он пас на солнышке свое стадо и, отдыхая, спокойно упирал свой посох в землю и, сам на него опершись, с улыбкой погладывал вокруг.
Потом, когда разразилась катастрофа, и она отозвалась в нем, как отзывалось другое. Он простер руки к небесам и завопил как оглашенный. Значит, и это тоже он носил где-то в себе.
Но нельзя сказать, чтобы то или другое было так уж от него неотделимо. Когда он потом пас другие стада, совсем в других горах, про которые ему было известно не больше, он, отдыхая, снова спокойно опирался на свой посох, с улыбкой поглядывая на солнечную долину.
Услышанное вызвало тысячекратный отклик - все у них теперь было общее.
А на земле время шло неумолимо, проходили столетия, проходили тысячелетия. Но им это было неведомо. Они шли своим путем, спокойные, просветленные.
И вот, после долгого молчания, послышался еще один голос. И была какая-то загадочная привлекательность в этом голосе, кротком и вместе с тем решительном:
Мы знаем только про себя, об остальном можем только догадываться, наш удел - жизнь, иного нам не дано.
А другой сказал:
Если бы даже наше существование и не имело под собой никакой основы, нам следовало бы самим подвести под него основу. Дураки и глупцы сказали бы, что мы строим в пустоте. Но люди должны строить и верить. И наше строение стояло бы неколебимо, на чем бы мы его ни возвели. Потому что пустоты вообще не существует.
Так говорили они друг с другом.
И они думали про бога, представляли, как он стоит там в неугасающем свете своего маленького фонаря, и так им делалось хорошо и покойно. И они шли и шли. А за ними следовала толпа детишек, они шумели и смеялись, играли в догонялки. Они придумывали себе все новые игры, чтобы было не так скучно, и покуда взрослые делились своими мыслями, дети играли в свои игры.
Кто-то сказал:
Богатство жизни не знает границ. Никакое воображение не способно его вместить. Так чего же нам еще желать? А если нам все же захочется чего-то еще, так ведь в нашем распоряжении еще все непостижимое, не познанное нами. И стоит нам лишь руку протянуть, лишь подумать, что вот там что-то есть, - и вот оно, пожалуйста! Так чего же нам еще желать?
А кто-то еще рассказал:
Жил в нашем городе удивительнейший человек. Он был борцом за счастье человечества, сражался за свет и истину, он любил нас. Он шел впереди нас, далеко впереди, указывая нам дорогу сквозь тьму. Мы схватили его и сожгли на костре, он так и не склонил перед нами головы.
Прошла тысяча лет, мы поставили камень на площади, где он был сожжен. На камне мы высекли его бессмертное имя и надпись под ним:
Он указывал людям дороту. Мы сожгли его здесь на костре. Иначе поступить мы не могли.
Этот рассказ преисполнил их торжествующей уверенностью и ликованием. Они долго шли молча, неся с собой свое богатство. Они шли и шли во тьме, сильные и свободные.
Наконец один из них проговорил, кротко и тихо:
Быть счастливым - это долг человека.
И эти его слова, показалось им, вместили в себя всю их веру. Они поразили их в самое сердце, эти простые слова. Молча, задумчиво шли они все вперед и вперед, и отблеск внутреннего света лежал на их лицах.
Но еще один сказал:
Мы счастливы не тем счастьем, о каком мечтают нищие и обездоленные. Мы счастливы, как бывает счастлив человек, который просто живет, ибо для этого он и создан.
А другой:
Радость добывается нелегко, это требует немалых усилий. Пусть человек похоронит свое горе, утопит его в целом море света, и каждый тогда увидит, как эта отдельная, крошечная боль лучится драгоценным алмазом, добытым в мрачных скалах.
Так рассуждали о счастье люди серьезные.
А вот кто-то, чей голос был гораздо звонче, рассказал следующее:
Один человек, у которого было большое горе и который отчаянно сражался с судьбой, хотя дошел уже до тайности, увидел как-то, проходя мимо одного дома у дороги, двухлетнего мальчика, который играл на куче песка с собакой. Это был совсем крошечный щенок, забавно ковылявший на своих толстых лапах. Он раз за разом тыкался мокрым носом ребенку в спину, и тот всякий раз радостно взвизгивал и хлопал в ладоши. Глазенки его сверкали от восторга. На них смотрела молодая женщина, и лицо у нее было очень счастливое, она радовалась не меньше малыша. Человек невольно остановился и улыбнулся очень уж это было забавно. Но улыбнулся он еще и ради них - чтобы показать, что любуется их счастьем.
Так он постоял немного, улыбаясь, и пошел своей дорогой. Сценка эта была из совсем другой, счастливой жизни, такой далекой от его собственной, и он тут же ее забыл. Но она, видно, все же где-то у него застряла, и когда он снова погрузился в свое горе, мучительно размышляя, как же ему дальше быть, он невольно улыбался.
После чего еще один сказал:
А вы знаете, что каждую минуту в мире рождается один горбатый. Выходит, что у рода человеческого существует потребность в горбатых. В те времена, когда я еще жил на земле, нашлись люди, которые, узнав про это, пришли к выводу, что жизнь в своей исконной сущности - вещь крайне жестокая, и, придя в отчаяние, провозгласили это самое отчаяние единственной великой истиной, единственным спасением, единственным, что может облагородить и возвысить их и дать им то горькое утешение, что обретает человек в смирении. Однако, сколь бы пылко ни проповедовали они свою веру, горбатых от того на свете рождалось не больше. Как и прежде - всего лишь один в минуту. И, придя в отчаяние теперь уже из-за этого, они в конце концов вынуждены были прекратить свою проповедь и удовольствовались тем, что снова стали счастливые.